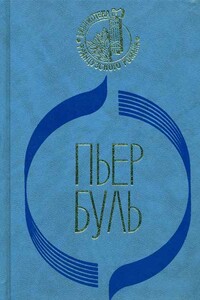Силоам - [152]
И вот теперь он видел, как над потемневшим миром встает незнакомое лицо Ариадны. И это было так же красиво, так же волнующе, как когда ему показали, в таком же темном зале, так же располагающем к чудесам, прозрачное изображение его груди с ее потайной архитектурой и мраморной нежностью легких.
От Ариадны осталось только лицо; менее того — часть ее лица; но эта часть больше говорила об Ариадне, чем могло бы сказать все ее тело. Это был всего лишь узкий профиль, где свет очерчивал шею, лишь для того, чтобы замереть у ее основания и показывал лоб, лишь чтобы обрезать его у корней волос. Но Симон восхитился тем, что случайное расположение линий на бумаге уничтожало как раз все, что было роскошного в лице его любимой, — эту пышную, бурливую копну волос, непокорную часть ее самой, единственное, что должно было выражать нечто нерешительное, расплывчатое, может быть, встревоженное. Симон любовался тем, что случай походя высвободил как раз то волнующее выражение этого обнаженного лица, которое читал на нем он сам.
Симон мог думать, что Ариадна, придя к нему в луче света, окруженная тенью, сама будучи ею, никогда не имела иного существования, кроме этого, или, по крайней мере, здесь у нее было существование, высшее в сравнении с обычным. Во всяком случае, в этом светлом профиле, выделявшемся на фоне черного четырехугольника, явно было нечто иное, нежели просто изображение, «воспроизведение». Что же это было?.. Не являлось ли это двойником, похожим на того, кого он так часто воображал позади нее, подобно ангелу, подобно ее более прекрасному образу, которым вдохновилась природа для ее создания и в чьи очертания она, возможно, когда-нибудь вернется? Не было ли это небесным образом, чьим земным отображением была Ариадна? Не было ли это тем, что ждало ее за пределами мира и чье невидимое присутствие над ней делало ее облик одновременно таким хрупким и таким желанным?..
Направляемый инстинктом открытия, Симон еще больше сократил рамки изображения, более ревниво выделил сверкающую линию профиля, убрал прядь, свернувшуюся на щеке, оставив лишь то, что показывало ее нежный изгиб. Тогда лицо стало похоже на задумчивый цветок, несомый стройным стеблем шеи, чей изгиб подчеркивал свет… Да, это было именно то лицо, что наилучшим образом соответствовало тому, которое он так часто видел мысленным взором, когда любовался Ариадной во время их быстротечных встреч — таковы бывают мелодии, что звучат в нашей памяти, но неизбежно ускользают от нас, как только мы пытаемся их воспроизвести. Это было именно то лицо, находящееся вне всего внешнего, которое, как он думал, ему никогда не удастся воспроизвести, увидеть вновь…
Когда час спустя Симон снова открыл окно, он удивленно воззрился на мир. Ночь была холодна, небо затянуто облаками; в воздухе пахло снегом. На втором этаже Дома неярко мерцал огонек, неподалеку от комнаты Массюба, — того Массюба, что держал в своих руках руку Ариадны и медленно агонизировал под лаской руки, которую поцеловал.
Утром, когда Симон схватил отпечаток, всю ночь сохший на столе, он увидел, что тот почти ничего не потерял от своей колдовской власти. Он не был одурачен обманчивым возбуждением: Ариадна была там живой, как никогда. Между нынешней девушкой, живущей в ограниченном пространстве, чьи слова, походку, движения он знал, и прежним мифическим образом, который он столь долго любил, возникла незнакомка. Что же принесла ему эта странная Ариадна, освобожденная от копны своих волос? Что она хотела ему сказать? Ему не удавалось выразить ее послание ясными словами, понять, как могло это лицо родиться из снимка, который, как он думал, всего лишь запечатлел Ариадну. Никогда жизнь не дарила ему этого лица, этого выражения властности и отсутствия одновременно — того отсутствия, что было присутствием в чем-то другом… Что за мысль жила под нежным скатом этого лба и едва обозначенным раструбом сомкнутых губ? На чьей стороне была истина: на стороне образа, который он призывал к себе ранее, на стороне реальности — или этого нежданного явления?..
Симон подумал, что ему следовало увидеть Ариадну лишь один раз в жизни, в первый раз, и тогда все остальные ее образы послушно улеглись бы в эту форму, созданную однажды и навсегда силой самого первого впечатления. Наверное, девушка иногда, мимолетно, была тем, что отобразил портрет: но, поскольку Симон никогда не мог достаточно долго удерживать этот ускользающий образ, он не остался в его памяти, не слился с первым. Все преходящие оттенки выражения, составляющие, однако, подлинную жизнь человека и через которые он раскрывается нам до глубины души, не могут соперничать с застывшим, хотя и немного произвольным его образом, хранимым нами из-за стремления к легкому отождествлению. Симон говорил себе, что без помощи этого аппарата, немного огрублявшего природу, навсегда запечатлевая на пленке то, что по сути своей мимолетно и должно бы навсегда остаться вне обладания, он, может быть, никогда бы до конца не узнал Ариадны.
На поверхность этого задумчивого лица вышло все самое потайное в человеке. То, что могло расцветить думы Ариадны, когда она сидела у окошечка той столовой, куда они заходили несколько раз, — Симон хорошо помнил аккордеониста и шумные беседы рабочих, споривших за кувшинчиком вина, сдвинув шляпу набекрень, — отныне и навсегда все это можно было прочесть в маленьком бумажном четырехугольнике, откуда было изгнано все, что не было основными, говорящими чертами этого лица. По сути, это выглядело еще красивее, чем тот великолепный рентгеновский снимок, который некогда прислали Симону в красивом, роскошном конверте. Ибо ту фотографию сегодня можно было сделать повторно, и Симон знал, что, благодаря медленности выздоровления, она, возможно, не слишком будет отличаться от первой… Но здесь перед ним было единственное, однодневное, одномоментное лицо, и в сотне других портретов Ариадны можно будет найти лишь его разрозненные черты.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

Французская писательница Луиза Левен де Вильморен (1902–1969) очень популярна у себя на родине. Ее произведения — романтические и увлекательные любовные истории, написанные в изящной и немного сентиментальной манере XIX века. Герои ее романов — трогательные, иногда смешные, покорные или бунтующие, но всегда — очаровательные. Они ищут, требуют, просят одного — идеальной любви, неудержимо стремятся на ее свет, но встреча с ней не всегда приносит счастье.На страницах своих произведений Луиза де Вильморен создает гармоничную картину реальной жизни, насыщая ее доброй иронией и тонким лиризмом.

Жорж Сименон (1903–1989) — известный французский писатель, автор знаменитых детективов о комиссаре Мегрэ, а также ряда социально-психологических романов, четыре из которых представлены в этой книге.О трагических судьбах людей в современном мире, об одиночестве, о любви, о драматических семейных отношениях повествует автор в романах «Три комнаты на Манхэттене», «Стриптиз», «Тюрьма», «Ноябрь».

Борис Виан (1920–1959) — французский романист, драматург, творчество которого, мало известное при жизни и иногда сложное для восприятия, стало очень популярно после 60-х годов XX столетия.В сборник избранных произведений Б. Виана включены замечательные романы: «Пена дней» — аллегорическая история любви и вписывающиеся в традиции философской сказки «Сердце дыбом» и «Осень в Пекине».