Сигналы - [5]
«1.7. Товарищи, товарищи, что же это делается, что это делается такое.
1.8. Взяли, посадили, не разобрались никто ничего, не рассмотрели ничего.
1.9. Потом объявляли взыскания, все время объявляли взыскания ему.
1.10. Теперь, когда сгорело, он виноват, а ведь все знают, что они сами подожгли.
1.11. Алтынов, Алтынов, все виноват Алтынов. Я знаю, он мне писал, что это все Алтынов, все, что выделяли, он расхищал, и он же у родственников вымогал.
1.12. Они вымогали с родственников за все — за телефонный звонок, за свидание, за посылку вымогали.
1.13. Что же это делается такое, товарищи, или никто уже не видит ничего.
1.14. Они сами подожгли, чтобы только наружу не вышло, мне сын писал, они за это сына.
1.15. И я же должен теперь, вы слышите, я же должен теперь.
1.16. Товарищи, товарищи, что же это такое.
1.17. Еще когда был ребенком, все время клеил фанерные корабли».
Тихонов понимал, что ему не следует выдумывать про себя эту книгу перовского Иова, но иначе он сошел бы с ума. Савельеву он обрадовался как родному. У него появился предлог выгнать Блинова. В деле Блинова нельзя было разобраться, мимо таких вещей можно было только проходить, стараясь не оглядываться. Они засасывали. Некоторые люди, хорошо знакомые репортеру Тихонову, не удержались и всосались таким образом — кто в помощь заключенным, кто в лечение больных детей, кто в раздачу сирот; невинный поиск смысла обернулся такой жизнью, в которой задуматься о смысле было уже некогда, то есть вопрос в принципе решался, но так же, как головная боль излечивается гильотиной.
— Я вам позвоню, — сказал он Блинову.
— Да я сам зайду, что вы будете беспокоиться…
— Нет, я позвоню, — железным голосом настоял Тихонов. Но внешность у него была неубедительная, малый рост, круглая голова, очки, — и ясно было, что Блинов придет уже назавтра и будет так ходить долго.
Савельев уселся и собрался рассказать про сигналы, но Тихонов его заговорщически прервал.
— Тсс, — сказал он. — Сейчас вернется.
— Кто?
— Этот. Они никогда с первого раза не уходят.
И точно — Блинов вернулся еще дважды, оба раза порываясь начать сначала — ему все казалось, что Тихонов не услышал, не захотел понять главное. После его второго ухода выждали минут пять.
— Ушел, — сказал Тихонов. — Рассказывайте.
Савельев рассказал про сигналы и обещал дать записи, чтобы их выложили на сайте «Глобуса».
— Интересно-то интересно, — сказал Тихонов. Он нравился Савельеву, потому что совсем не выделывался. У журналистов желание понтоваться проходит быстро, если только они не спиваются в писатели. — Но вот честно, Игорь, — если вы, допустим, спросите меня… Я не очень трусливый человек в принципе. Но заплатите вы мне миллион — я не полезу в «Инновационную Россию».
При всей своей аполитичности Савельев не удивился. Он готов был услышать что-то подобное. «Инновационная Россия» была не та сила, чтобы иметь с ней дело, даже если оно сводилось к спасению от голодных медведей.
4
ИРОС, как называла она себя (будто бы по созвучию с древнегреческим «герои»), была партией долгожданных хунвейбинов, на которых не потянули ни «Наши», ни «Молодогвардейцы», ни прочая шушера. Эти собирались не на Селигере, а на Валдае, как одноименный клуб. Попасть на их сборища не могла даже пресса, проваренная в кремлевском пуле до последней степени подлости. Сведения о них не публиковались, а разглашались, не распространялись, а просачивались, не навязывались, а дозировались. Спонсировал их глава крупнейшей монополии, не будем называть имен, седовласый голубоглазый знаток пяти языков, включая два древних, образцовый славянин, заставивший всех женатых сотрудников своей корпорации креститься, венчаться и поститься. После дискуссий об инновациях все предавались боевым искусствам. Ездили туда не прыщавые недоучки, а продвинутая молодежь плакатной внешности; обсуждалась не борьба с врагами, а стратегические планы. Единственный репортаж со съезда ИРОСа — проходил он, в виде исключения, в Москве, — прошел по «Вестям-24» и занял три минуты. Ясно было, что пришли люди, не любящие шутить, молодые технократы умеренно-нацистских взглядов, осуждавшие Сталина разве что за избыток сентиментальности. Все они, в отличие от прежней неокомсомольской мелкоты, считались профессионалами. Их называли то движением, то партией, но в парламент они не торопились. Называли их также иродами — после статьи Крошева «Инновационная Родина», — но Крошева в двух шагах от дома, в центре, на людной улице избили так, что ИРОС перестали трогать. Богатейшие люди страны жаждали вписаться в их ряды, но брали с разбором. Говорили, что Стахов (которого Перельман называл недосягаемой величиной) и Глобушкин (единственная русская Нобелевка по физике за последнее десятилетие) читали лекции иросам на Валдае, а престарелый историк наших космических прорывов Жабин намекал в «Комсомолке», что в ИРОСе собралась чуть не вся элита советского Байконура. Теоретиком ИРОСа считался Гаранин, автор трехтомной «Геополитики», от которой в ужасе стонали все его бывшие коллеги по истфаку; стонать-то стонали, но дружно признавали, что Гаранин — голова, полиглот, переводчик с латыни и урду, а в свободное время — живописец, предпочитавший рисовать древних воинов в подробном вооружении. О его коллекции ножей ходили легенды. Он был высок, аскетичен, безупречен.
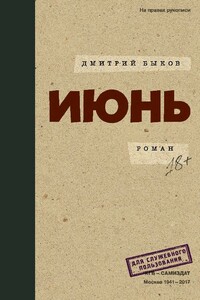
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…
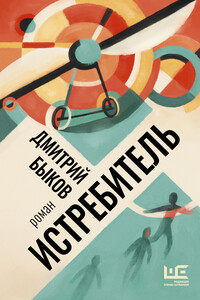
«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
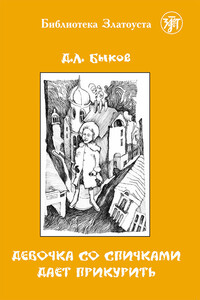
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.
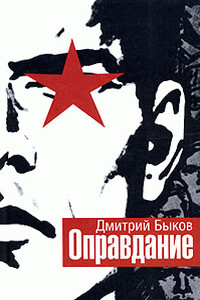
Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.
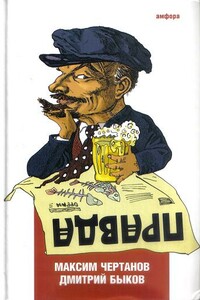
О нем писали долго и много. Он стал официальным идолом. Его восхваляли — и разоблачали, боготворили — и ненавидели. Но ТАК о нем не писал никто и никогда!«Правда» — новая книга Максима Чертанова и Дмитрия Быкова, беспрецедентный плутовской роман о Ленине, единственный за целое столетие!Вдохните поглубже и приготовьтесь — добрый Ленин против злого Дзержинского, борьба за таинственное Кольцо Власти, Революционный Эрос и многое другое... История мировой революции еще никогда не была такой забавной!Иллюстрация на обложке Александра Яковлева.
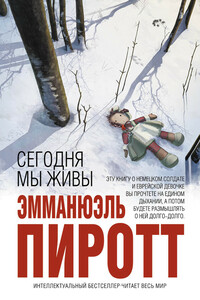
«Сегодня мы живы» – книга о Второй мировой войне, о Холокосте, о том, как война калечит, коверкает человеческие судьбы. Но самое главное – это книга о любви, о том иррациональном чувстве, которое заставило немецкого солдата Матиаса, идеальную машину для убийств, полюбить всем сердцем еврейскую девочку.Он вел ее на расстрел и понял, что не сможет в нее выстрелить. Они больше не немец и еврейка. Они – просто люди, которые нуждаются друг в друге. И отныне он будет ее защищать от всего мира и выберется из таких передряг, из которых не выбрался бы никто другой.

Михейкина Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.Из «Наш Современник», № 11 2015.
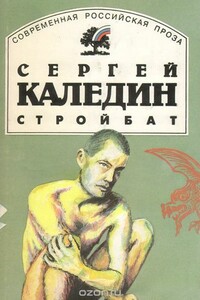
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
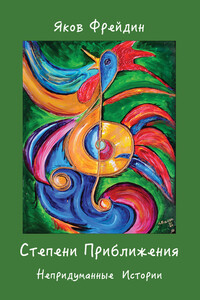
Якову Фрейдину повезло – у него было две жизни. Первую он прожил в СССР, откуда уехал в 1977 году, а свою вторую жизнь он живёт в США, на берегу Тихого Океана в тёплом и красивом городе Сан Диего, что у мексиканской границы.В первой жизни автор занимался многими вещами: выучился на радио-инженера и получил степень кандидата наук, разрабатывал медицинские приборы, снимал кино как режиссёр и кинооператор, играл в театре, баловался в КВН, строил цвето-музыкальные установки и давал на них концерты, снимал кино-репортажи для ТВ.Во второй жизни он работал исследователем в университете, основал несколько компаний, изобрёл много полезных вещей и получил на них 60 патентов, написал две книги по-английски и множество рассказов по-русски.По его учебнику студенты во многих университетах изучают датчики.

В своей книге автор касается широкого круга тем и проблем: он говорит о смысле жизни и нравственных дилеммах, о своей еврейской семье, о детях и родителях, о поэзии и КВН, о третьей и четвертой технологических революциях, о власти и проблеме социального неравенства, о прелести и вреде пищи и о многом другом.
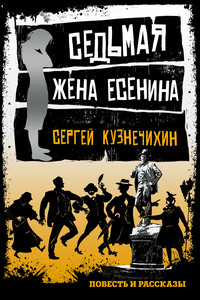
Герои повести «Седьмая жена поэта Есенина» не только поэты Блок, Ахматова, Маяковский, Есенин, но и деятели НКВД вроде Ягоды, Берии и других. Однако рассказывает о них не литературовед, а пациентка психиатрической больницы. Ее не смущает, что поручик Лермонтов попадает в плен к двадцати шести Бакинским комиссарам, для нее важнее показать, что великий поэт никогда не станет писать по заказу властей. Героиня повести уверена, что никакой правитель не может дать поэту больше, чем он получил от Бога. Она может позволить себе свести и поссорить жену Достоевского и подругу Маяковского, но не может солгать в главном: поэты и юродивые смотрят на мир другими глазами и замечают то, чего не хотят видеть «нормальные» люди…Во второй части книги представлен цикл рассказов о поэтах-самоубийцах и поэтах, загубленных обществом.
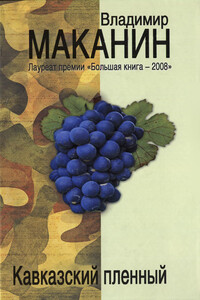
В в повести «Сюр в Пролетарском районе» Владимир Маканин развивает свою любимую тему: частная жизнь человека, пытающегося не потерять себя в резко меняющемся мире.Жесткое, выразительное письмо сочетается с изысканным психологизмом и философской глубиной.
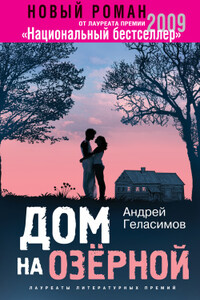
Новый роман от лауреата премии «Национальный бестселлер-2009»! «Дом на Озёрной» – это захватывающая семейная история. Наши современники попадают в ловушку банковского кредита. Во время кризиса теряют почти всё. Но оказывается, что не хлебом единым и даже не квартирным вопросом жив человек!Геласимов, пожалуй, единственный писатель, кто сегодня пишет о реальных людях, таких, как любой из нас. Без мистики, фантастики – с юмором и надеждой. Он верит в человека разумного, мудрого и сострадающего. Без этой веры нет будущего – не только у русского романа, но и у общества в целом.
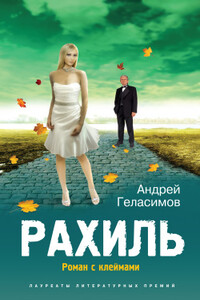
Печальна судьба русского интеллигента – особенно если фамилия его Койфман и он профессор филологии, разменявший свой шестой десяток лет в пору первых финансовых пирамид, ваучеров и Лёни Голубкова. Молодая жена, его же бывшая студентка, больше не хочет быть рядом ни в радости, ни тем более в горе. А в болезни профессор оказывается нужным только старым проверенным друзьям и никому больше.Как же жить после всего этого? В чем найти радость и утешение?Роман Андрея Геласимова «Рахиль» – это трогательная, полная самоиронии и нежности история про обаятельного неудачника с большим и верным сердцем, песнь песней во славу человеческой доброты, бескорыстной и беззащитной.
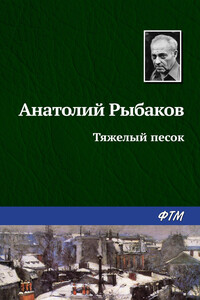
Любовь героев романа Анатолия Рыбакова – Рахили и Якова – зародилась накануне мировой войны. Ради нее он переезжает из Швейцарии в СССР. Им предстоит пройти через жернова ХХ века – страдая и надеясь, теряя близких и готовясь к еще большим потерям… Опубликованный впервые в «застойные» времена и с трудом прошедший советскую цензуру, роман стал событием в литературной жизни страны. Рассказанная Рыбаковым история еврейской семьи из южнорусского городка, в размеренную и достойную жизнь которой ворвался фашистский «новый порядок», вскрыла трагедию всего советского народа…