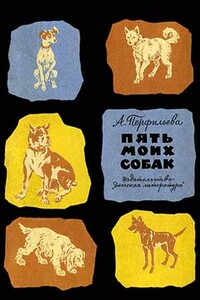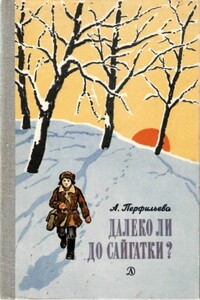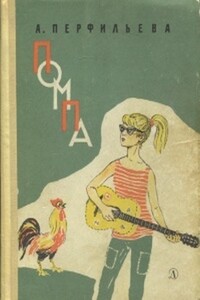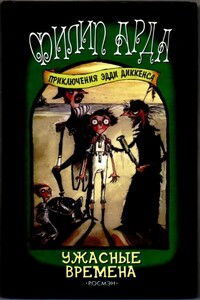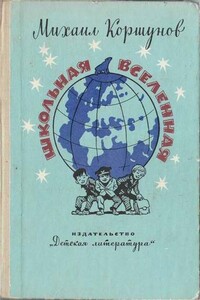— Пуделька, дорогая! Пуделечка, милая!..
И тотчас блуждающий огонёк выскочил из-за дерева, лизнул снег, пробежал по собакам.
Гаврила Семёнович, держа в руке электрический фонарик, удивлённо, не веря своим глазам, сказал:
— Витя? Ты?!.
* * *
— …Да, — повторил он. — Вот, значит, как всё у нас с тобой получилось…
Витя сидел на табуретке, протянув босые ноги к печке. Над печкой на верёвке сушились его носки. Ботинки стояли торчком, упираясь в чугунные ножки.
В сторожке было очень тепло. Плавал синий чад от керосиновой лампы. В углу горбом лежал рюкзак Гаврилы Семёновича, к нему прислонился раскрытый этюдник. На столе в беспорядке смешались кисти, термос, кружка с остатками каши, круг копчёной колбасы, складной нож…
На топчане, на стенах, приколотые кнопками и просто так, лежали и висели разноцветные куски картона. Когда дрова в печке вспыхивали, становилось похоже на кино: вот мелькнул залитый солнцем снежный овраг, вот лес и синие тени под ним, вот какая-то разрушенная красная стена…
Витя молча смотрел на огонь.
Он сказал всё: и про то, что передумал за эти дни, и про Кривошипа, и про подслушанный разговор Марьи Ивановны с матерью, и про то, что обрушилось на него совсем недавно, — пропажа шпаги.
Теперь он ждал.
Но Гаврила Семёнович больше ничего не говорил.
Пошевеливая густыми бровями, вытряхнул из рюкзака фуфайку, толстые шерстяные носки. Подошёл сзади к Вите, сказал:
— Великовато, конечно. Ничего, одевай!
Потом крикнул:
— Спать будем валетом! Ничего, поместимся! Теперь так: садись ешь. Вон колбаса и каша. Я пойду на разъезд, попробую дозвониться в город. Мать ведь не знает, что ты здесь?
— Н-нет, не знает.
— Эх, мушкетёр! Ладно, нюни не распускать! Поешь и ложись спать!
— А… вы?
— Я? Вернусь в своё время. Пуделька, ты останешься с Витей. Запри, Витя, за мной дверь.
Гаврила Семёнович ушёл.
Теперь Вите было совсем хорошо. Он натянул Гаврилы Семёновича носки — точно рейтузы. Вздохнув, взял со стола колбасу — только сейчас почувствовал острый, нестерпимый голод. Пуделька постучала хвостом. Витя отломил кусок, разделил пополам. Кашу отрезал ножом, как хлеб. Ничего вкуснее он в жизни не едал!
Когда голод затих, Вите стало ещё тревожнее. Почему Гаврила Семёнович не возвращается? Почему он не сказал ни слова до сих пор ни о шпаге, ни о самом Вите? Ушёл куда-то, оставил его одного…
Витя не мог лечь на топчан, хотя всё тело налилось усталостью. Пуделька подошла близко, смотрела в глаза, как будто понимала…
Наконец в сенцах загремел засов. Витя бросился к двери. Пуделька залилась радостным лаем.
Гаврила Семёнович вошёл, отдуваясь. По его лицу, по капюшону и куртке бежали светлые дымящиеся капли.
— Уф! — сказал он и отряхнулся. — Пропали мои лыжи, Витя, первый дождь нагрянул. Но почему ты не ложился?
— Я… я вас хотел обождать, Гаврила Семёнович. — Голос у Вити дрогнул, точно внутри что-то оборвалось. — Гаврила Семёнович, я так не могу! Вы… вы… хоть бы одно слово! Гаврила Семёнонович…
— Ну, что же… — Гаврила Семёнович сбросил куртку, вытер о половик ноги. — Раз ты этого ждёшь, давай поговорим.
— Я вам всё, всё рассказал! Я ничего не утаил! — вырвалось горячо у Вити.
— В этом я уверен. Ты действительно рассказал мне всё, и теперь говорить буду я. Самое главное, что ты нашёл в себе мужество разрубить этот гордиев узел. Ты понимаешь меня, Витя?
Витя кивнул. Гаврила Семёнович присел рядом с ним на топчан.
— Видишь ли, дорогой мой, в том, что ты, начитавшись «Трёх мушкетёров», увлёкся д’Артаньяном и захотел быть похожим на него, я, собственно, ничего плохого не вижу. Д’Артаньян был храбрым, честным и верным дружбе человеком. Твоя беда, Витя, в другом. Ты вообразил себя храбрецом-мушкетёром, а поступал как раз противоположным образом! Желая во что бы то ни стало владеть шпагой, ты нарушил честное слово, поссорился с товарищем, изворачивался, трусил… Посмотри: одна твоя неправда повлекла за собой другую, третью, обросла, как снежный ком. Это ты, надеюсь, понял? А уж если человек в одном месте, ну, допустим, у Поповых, вежлив, внимателен, услужлив, а в другом, например, у себя дома, груб, белоручка, нечуток (Витя сморщился так, как будто ему наступили на мозоль), — значит, такой человек — лицемер, двуличен. Ведь правда? Нет ничего хуже!.. Это тебе тоже ясно?
Витя низко опустил голову.
— Хорошо ещё, что ты во-время опомнился, разобрался во всём и сделал то, что нужно…
Гаврила Семёнович встал, прошёлся по сторожке.
— Вот ты говорил, что у вас в отряде скучно, что вожатая уж слишком как учительница… Конечно, нехорошо, если это так. Но ведь надо и самим придумывать, изобретать, искать, а не ждать, когда тебе разжуют и положат в рот занятие по вкусу! Интересного кругом очень много, только сумей найти его!
Гаврила Семёнович подошел, потрепал Витю за вихры.
— Смотри-ка сюда! — сказал он. — Я хочу показать тебе свою будущую картину.
Он снял со стены лампу и осветил висевший над топчаном холст. Витя поднял голову.
Гаврила Семёнович снял со стены лампу и осветил висевший над топчаном холст.
…Голубые сугробы снега залегли вокруг полуразрушенной старинной башни. Заходящее солнце зажглось на далёкой снежной равнине. Там, где она сливалась с лесом, синели тени. По глубокому снегу, как чёрные пятна, распластались закоченевшие, разметавшие руки фигуры…