Шахта - [63]
«Рассчитаю!» Ишь ты! Михаил был в каком-то странном бессилии перед Азоркиным, точно так, как однажды по дурости надумал купаться в шторм. Носило его прибойной волной туда-сюда, катало по песку, никак не выхлестывая на берег. Но тогда он сумел все же вкогтиться в плотную мокреть песка, не дал волне утянуть за собой. «А что, если теперь вцепиться в Азоркина, рвануть: выдержит так выдержит, а нет, так...»
— Ладно, Петр, посадил, так и сам садись. Придет твоя ненаглядная, не волнуйся, а не придет — рассчитаешь, другую примешь. Садись.
Азоркин с готовностью сел, вытряхнул из пачки по сигарете Михаилу и себе, потряс спичечным коробком и ловко вычеркнул огонь.
— Видал? — похвастал он.
— Вот и шел бы на работу. Деньги деньгами, а без работы... кровь-то шибанет в голову!
— Я подумаю. Начальник быткомбината уже звал.
— Ты не думай, — настаивал Михаил. — А завтра прямо иди. Чего тут думать? И при деле и при людях... Я за этим и зашел к тебе, поговорить. Безделье-то, знаешь, до добра не доводит. Ну а раз так, то и отлично!..
— Ладно, это потом, — перебил Азоркин. — Ты все же расскажи: что Райка-то?
— Толкни дверь, — попросил Михаил. — Накалил, дышать нечем.
Азоркин шагнул к двери, распахнул, и сразу ударил ветер через весь дверной оклад, словно его и не задерживала веранда. Леденистая масса воздуха так туго набилась в домишко, что казалось, его вот-вот разорвет, развалит изнутри.
— Ты бы хоть взял да соврал мне, что ли? — Михаил говорил тихо, прислушиваясь к завыванию ветра. — Эх, мол, подлец я, подлец: как же я жену свою потерял и не заметил? Как же, сказал бы, я жил, что дети ко мне в больницу не пришли прощаться? Ну, соври, а? Что тебе стоит?
— Судишь? Судье-то всегда легче, чем подсудимому, — процедил сквозь зубы Азоркин.
— Не сужу я, Петро. Но и сопли тебе утирать не буду...
— Да уж ты вытрешь... Вместе с носом оторвешь. Ты такой!... Везет мне на друзей, — добавил он с усмешкой.
— Это когда же я тебе другом стал? — удивился Михаил. — А-а, черт с тобой, друг, недруг... На работу только завтра выходи!.. Азоркин ты Азоркин, сколько сердечных людей вокруг тебя, а ты ни единой души не увидел. И ведь заранее знал, что придут они к тебе, добрые, утешать, помогать, а ты натешишься в их благодати. При-и-дут, — протянул голос. — А ты — нет! Прошу, не поддавайся им...
Азоркин набычился. Свесившаяся сивая прядка волос мелко-мелко дрожала. Он вдруг замотал головой, закачался, как от зубной боли.
— Миша!.. — сорвался с места, обхватил Михаила сзади за плечи, сжал их до хруста.
— Петя, прости меня, дурака. Прости!.. — выдохнул Михаил. — Ну! Брат ты мой?! Жить будем, Петя. Что нас своротит?! Смерти кукиш в зубы сунули. А! Жить будем! Ложись спать, а завтра день придет. Наш день. Э-эх!
— Иди. Поздно. Иди, — всхлипывал Азоркин.
14
После той ночи, когда Василий Матвеевич Головкин вернулся от Ольги и разбил скрипку, он стал жить так же, как жил все годы, только с маленьким, никому не заметным, кроме жены Софьи, изменением: у него не стало того заветного полночного часа, когда он брал инструмент в руки и оживлял свой хилый, едва теплящийся дух.
От разбитой скрипки Софья собрала все до последней щепочки, и уже месяца через два она, склеенная каким-то местным мастером, висела на прежнем месте.
Водворив скрипку на место, Софья все вечера до глубокой ночи не ложилась спать, она сидела на кухне, поставив ноги на поперечину табуретки, ждала. Несколько раз она заполошно вскидывалась, приняв за знакомые звуки скрипки визг тормозов автомашины, и опять замирала по-птичьи, обратившись вся в слух. Потом она ложилась в постель, но не могла уснуть. И тихо плакала или, не сдержав боли в сердце, срывалась на придушенные рыдания: «Господи! За какую вину мне жизнь такая!..»
Так прошел январь. А в феврале потеплело, солнце согревало подоконник. Василий Матвеевич, отлежав бока, приподнимался с дивана; сначала сидел, ждал, когда отроятся, откружатся в глазах оранжевые мухи, а потом, словно пробуя прочность пола, делал ногой первый шаг, второй, так, коротко переступая, шел, как босой по острым камням, добирался до окна и опускался расплывисто на стул.
Нет, это только казалось, что Василий Матвеевич не жил все свои годы, а существовал. Жил, только у него была своя, отдельная от других жизнь, выстроенная им самим, трогать которую, изменять в ней что-либо было бы так же губительно, как, например, выкапывать и выправлять на свой лад корни дерева.
Василий Матвеевич пытался удержаться без движения на самой быстрине. Да куда там! Чем дольше он держался, тем резче, как ему казалось, срывало его с места, кувыркало, било о камни — спасения нет.
Уже несколько дней он не ходил на работу. Его напарник, пенсионер Коротеев, целый месяц ободрял Василия Матвеевича, терпеливо поучал:
— Помучишься — научишься. В тело легкость придет, а в руки — сноровка.
Прошел месяц и другой, но ни сноровка, ни легкость к Василию Матвеевичу не приходили. Наоборот, руки делались как веревочные, не могли держать инструмент: налегал на ключ, а гайка ни с места, кайлом ударял в породу, будто голубь носом долбил по крошке. И главное, донимала одна мысль: «Зачем мне землю долбить? Зачем я ее долблю?»
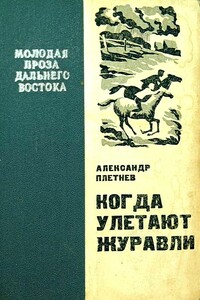
Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая Новосибирской области тринадцатым в семье. До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же окончил вечернюю школу.Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, которые он успешно окончил.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.