Шахта - [61]
В такую пору город Многоудобный совсем не оправдывает своего имени. Северный ветер, разбежавшись через широкую долину, легко раздувает дымящиеся отвалы породы, наполняя воздух жирной копотью; ему в помощь дружно чадят многочисленные кочегарки, жадно сжирают льготный уголь печи домов частного сектора. Сладковатый, едкий дым, желтая пыль нависают над городом как тяжелое сырое одеяло.
В ветреные, неуютные сумерки Михаил Свешнев вышел из учебного комбината шахты, где учился теперь после смены. Перед глазами еще виднелись гидравлическая схема механизированного комплекса, цилиндры, штоки, перекрытия... Еще торчало в ушах «изречение» преподавателя, с которым он суется к месту и не к месту: «Техника в руках дикаря — кусок железа». «Изречение» всем надоело да и вроде оскорбляло, и тогда Костя Богунков на эту «мудрость» придумал вопрос:
— А кто изобрел гвоздь?
Преподаватель не знал, но Костин подвох понял, посмеялся над собой, но свою словесную жвачку так и не выплюнул.
«Техника в руках дикаря... — привязалось и к Михаилу. — Вот ты зараза!» Он постоял в слабом заветрии сквера, словно вспоминая такое важное, что и шагать нельзя, но в голову лезла какая-то мешанина: «Ну вот, скоро отнянчишь бревна — над головой будет щит. Машинист передвижной крепи, машинист передвижного конвейера... Легче работа, счастливей жизнь... Техника в руках... Тьфу!»
Пирамидальные тополя, словно сжавшись в свечки от холода, текляво уходили в темно-серую высь, свистяще гудели там острыми вершинами.
Ветер, подталкивая в спину, вывел Михаила на гать. Напротив азоркинского дома он приостановился: зайти, не зайти?
Азоркина не видел с больничной встречи, и видеть не шибко-то хотелось: ведь не друг и даже не товарищ. «А все-таки и он человек. Да и связала нас судьба. А чем связала? — раздраженно спросил себя. — Рука у него не болит, сыт вроде, да и женщины не забывают...»
В горячке до какой только чепухи не додумаешься! От обиды, может, он так на Азоркина? От обиды и неуверенности, что вина перед Азоркиным хоть и вскользь, а на него пришлась.
Веранда скрипела и вроде качалась, как подвесная люлька, от шагов ли Михаила или от ветра. Михаил шарил по двери, искал скобу, и ему казалось, что на веранде еще ветренее, чем во дворе.
— Зинка, ты? — раздался хрипловатый голос.
Дверь распахнулась, и в лицо Михаилу ударило ярким светом и теплом. Азоркин стоял на пороге в майке поверх брюк, с веником в руке, растерянный и удивленный.
Михаил приметил, как тот еле сдерживал радостную улыбку, и сам улыбнулся, оглядывая маленькую кухню-прихожую с раскаленной докрасна плитой,
— Июль тут у тебя. Ну, здорово!..
Азоркин все еще стоял столбом, и внезапно радость на его лице сменилась выражением упрека:
— Как же ты надумал? — сказал, бросив веник в кучу шлака у топки. — Замерз, поди. Раздевайся давай, — засуетился он, усаживая Михаила к кухонному столу. — А я слышу — шебаршит кто-то. На тебя и не подумал.
— Да вот с работы...
— Смена-то, когда прошла... А-а, курсы проходишь! — кивнул Азоркин на торчавшую из кармана пальто Михаила сплюснутую вдвое тетрадку.
Михаил покосился на культю, которую Азоркин выложил на стол. «Нарочно, что ли?..» И Азоркин, видно, поняв смущение Михаила, надел рубаху, спрятал обрубок в длинном рукаве.
— Прохожу, — сказал Михаил. — Теперь вся смена переучивается...
— Ну, вот и ты сподобился! Твое теперь дело — кнопки нажимать, а уголь сам из забоя будет вываливаться... — Михаил не отозвался на слова Азоркина, сказанные с оттенком иронии, а тот одной рукой ловко накидывал совком уголь в пылающую печь, ворчал: — Пока кочегаришь — тепло, перестал топить — ветер все за полчаса выдует. Три кола забито, бороной накрыто — и весь дом. Уйду в общежитие, а то этим хламом привалит похлестче, чем в забое.
«Гу-гу-ух», — гоготал ветер, тряс дом так, что лампочка над столом покачивалась. «Ди-динь, ди-динь, ди-динь», — отзванивало стекло в черной, облупившейся от краски раме.
Сидели друг против друга, навалившись локтями на стол, а в черноте окна, словно на улице, за стеной, повторялся тот же стол, и они за столом, и там во мраке, глядели один на другого два хмурых человека — Азоркин и Михаил Свешнев.
— Как там новый начальник? — нарушил молчание Азоркин.
— Черняев? А ничего пока...
— А Головкин как?
— Плохи дела у мужика...
— И черт с ним! Я их не жалею!.. — покрутил Азоркин головой.
— Кого — их?
— Ну... вообще.
— Правильно делаешь, Петя, — не сдержался Михаил. — Столько доброго ты людям сделал, что на все право заслужил: и жалеть и не жалеть!
— Ох, и змей же ты, Мишка! Так и норовишь в завал загнать. Что мне над Головкиным плакать — своего вот так, — провел рукой у горла, заворочав кровянистыми белками глаз. Высморкался неопрятно, рукавом повозил под носом. Куда и щегольство делось?
«Пьет, наверно, дубина. «Что плакать». А сам только и ждет, чтоб пожалел кто», — думал Михаил, ловя себя на том, что надеялся увидеть Азоркина не прежним. Смерти в глаза поглядел, семья рассыпалась — все бы должно перетряхнуться в человеке, а тут только и изменения, что шея заотекла складками, лицо сыростью подпитало изнутри — ранняя старость принялась выправлять, казалось, вечно не стареющие его черты.
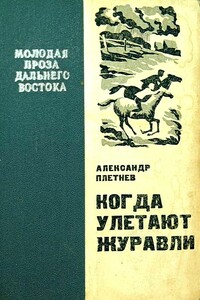
Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая Новосибирской области тринадцатым в семье. До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же окончил вечернюю школу.Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, которые он успешно окончил.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
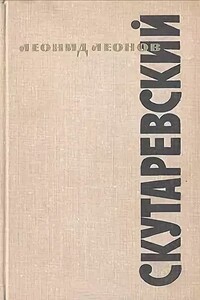
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
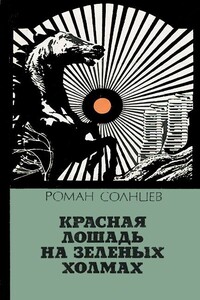
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.