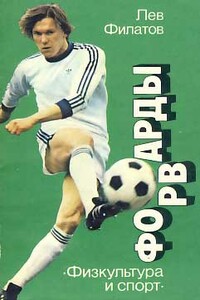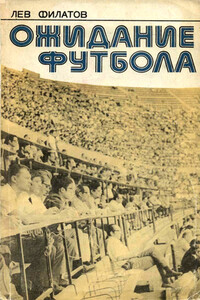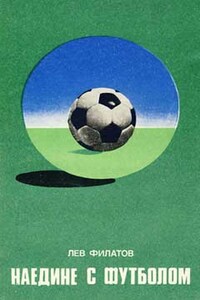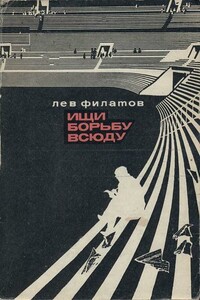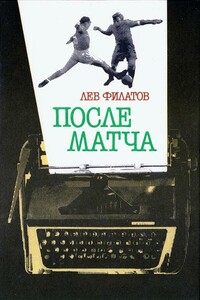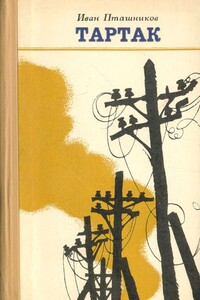Нечаев молчал. Ватагин осторожно на него покосился, настраиваясь при случае отбрить, поставить на место.
Костька сидел нескладно и бессильно сложив руки на животе, поникший, осунувшийся. Шея худущая, рот открыт, лоб взмокший. И жвачку забыл жевать.
— Иван Дмитрич…
Ватагин долго не отвечал. Он чувствовал, что с таким Костькой обязан заговорить, но сразу не мог. Потом наклонился вперед и взглянул снизу. Костя послушно и торопливо повторил его движение и близко придвинулся, плечом к плечу.
— Что?
— Иван Дмитрич, скажите чего-нибудь. Вместо вас же…
Близко сошлись две головы — одна в белом шлеме, другая в пушистой рыжей ушанке.
— Что сказать? Выше себя не прыгнешь, как умеешь, так и играй. Попроще. Против тебя — игроки, а ты тоже — фигура.
Костька повел широким плечом, поправляя свитер.
— Почему опоздал?
— Иван Дмитрич, я раньше всех начал собираться, но, понимаете…
— Руки дрожали?
— Если бы кого другого подменять…
— А что? Мое место счастливое…
— Я знаю. — Костька застенчиво улыбнулся. — Я за вас, знаете, сколько… лет десять болел.
Они откинулись на спинки кресел. Костька занялся свитером. Ватагин искоса смотрел на соседа и видел, что растерянный мальчишка, только что с ним говоривший, спрятался и рядом сидит хоккеист, налитой крутой молодой силой, которого он почему-то прежде не замечал.
Озноб исчез. Ватагин сбил ушанку на затылок. Он видел лед, слышал треск скрещенных клюшек и глухие удары шайбы о борта. Видел победу и маленькую серебряную медаль. Он ее, не глядя, сунет в карман, а Костька своей наверняка будет долго любоваться.
За окнами мелькали витринные огни, прохожие, узнавая хоккеистов, взмахивали руками. Им не отвечали: перед матчем не до приветствий.