Сердце ночи - [13]
<1925>
«Вокруг — стена волшебного тумана…»
<1933>
«Густых, воздушных, золотистых…»
<1920>
«В несовершенстве вялых линий…»
<1920>
«Две тени мы души одной…»
<1922>
«Мечта моя в загробном мире…»
<1933>
Пейзаж
<1954>
ЧИЧЕРОНЕ
Николаю Бахтину («Теперь я больше не поэт…»)
<1942>
Унтергрунд в Берлине
<1923>
«Пуста амфора Афродиты…»
<1920>
В Париже

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
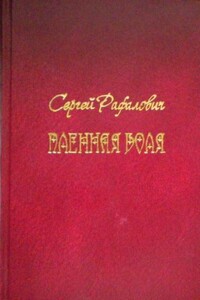
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.