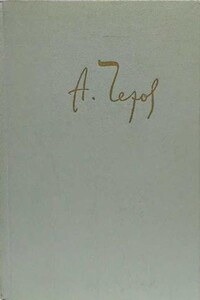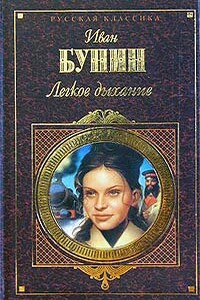Мы рассказали ему эпизод с сугробами. Он ужаснулся и заскучал. Его, видимо, тянуло в Лески. Он не раз подходил к окнам и тоскливым взором всматривался в погоду. Но погода была такова, что он даже не решался заговаривать с Архипом о поездке.
И во время чая и после чая, когда Архип удалился уже в переднюю, Ежиков перекидывался с ним краткими словами, для меня часто совершенно непонятными. «Что-то Андрейка теперь делает?» – спросит Ежиков. «А что ему, небось лаптишки плетет либо книжку читает», – ответит Архип, и мягкая улыбка осветит скучающее лицо Серафима Николаича после Архипова ответа… «Добыл ли работы Фома?» – с живейшим беспокойством проронит он немного спустя. «У Журавлева добудет!» – успокоивает Архип, и опять тянется молчание, и опять за молчанием следует отрывистый вопрос: «не то ожеребилась кобыла у Пахома?..» или: «починили ли полушубок Михейке?», или: «ах, кто-то Федосею условие с Архаилкой напишет!..»
День длился. Вьюга завывала. Семен вздыхал, а Ежиков уже и окончательно затосковал. То и дело подходил он к окнам и напряженно оглядывал мутное небо. Если о чем говорил он, то говорил рассеянно и скучно, постоянно срываясь со стула и измеряя комнату беспокойными шагами.
Во время вечернего чая Архип сердито кряхтел, исподлобья наблюдая за Ежиковым и, против обыкновения, был неразговорчив.
Наутро, чем свет, он разбудил Ежикова. Встал и я. Ежиков торопливо одевался при свете сальной свечки, трепетно мигавшей тусклым огоньком своим в руках Семена. Погода утихла. Серафим Николаич упрямо, отказался от чая, который мог бы быть готовым через час. Его как бы подмывало что-то и гнало. Лицо его светилось радостным возбуждением, и пальцы чаще, чем когда-нибудь, дергали бородку. Он дружески расцеловался со мною, не отказался от шубы, предложенной ему на дорогу, и убедительно просил меня приехать к нему.
Я вышел проводить его на крыльцо. В синем небе еще не погасли звезды. С востока наплывал желтоватый и как бы холодный рассвет. Вокруг хутора и далеко за ним беспорядочными волнами громоздились сугробы. Синеватые тоны облегали поле. Из избы курился дым, высоким столбом омрачавший небеса. Морозило. Ветер затих. Дали хмурились.
Дороги не было и следа. Путники мои тронулись целиком. Шершавый Архипов меринок, то утопая в сугробах выше колен, то неуверенно ступая по насту, медленно тянул грузные сани, в которых сгорбившись, сидел Ежиков и сердито нахохлившись Архип.
Я долго смотрел им вслед. Я смотрел до тех пор, пока и фигуры путников, и меринок, и грузные сани не слились в одно общее черное пятно и не потонули в угрюмой сумеречной дали.
Вослед им болезненным, бледно-янтарным блеском загоралась заря.