Семейщина - [48]
— Погодь! Думаешь, забыли мужики твое мошенство с амурской рыбой? Напомним им. К нам не сунешься! — запершись в горнице, угрожающе прошептал Елизар Константиныч.
Тут-то и взял его великий тряс: неудержимо, как у писаря Харитона, заплясали руки, голова поклоны отбивать начала, ноги сами собой запритопывали, словно в молодости на посиделках под звон бандуры…
Началось это под вечер, да так всю ночь он и не сомкнул глаз. А наутро из горницы раздались истошные крики:
— Не пущайте Моську… не пущайте!.. Старую обиду попомните… так его, так!
Прибежала на крик Елизариха, увидала побуревшего, бьющегося, словно в лихоманке, старика своего, в страхе захлопнула дверь, кинулась за Ипатом Ипатычем. Пастырь не замедлил появиться в Елизаровой горнице, но похилившийся разумом купец не узнал его.
— Христопродавец ты… Вяжите его! — вопил он.
Так ничего и не добился уставщик, сколько ни вразумлял старого своего друга. Он прочел над ним молитву, трижды перекрестил — и ушел… велел уповать на милость господню.
На другой день Елизару Константинычу стало хуже, он уже ломился в закрюченную снаружи дверь. Елизариха послала за бабкой-знахаркой. Та крестила дверь, плевала в щелку, бормотала, потряхивая головою, невнятные слова… оставила Елизариха заговорной водицы…
Запертый в горнице Елизар бушевал два дня.
— Делать, видно, нечего, — сжалился над тестем Астаха, — доведется везти в Завод к докторам.
В горницу ворвались мужики — зять и братья — связали дергающегося страшного Елизара, взвалили на ходок и повезли… В Заводе главный доктор больницы, улещенный кадкой масла, обещал вылечить, отправил больного в город.
Вскорости трясун пристиг и двух братьев Елизара Константиныча — Иуду и Левона. Однако Левон совладал с болезнью, через месяц пришел в себя.
Никольцы всё это расценили по-своему: — Не иначе, братские ламы зачитали… не будут чужих баранух на заимку к себе загонять. Ламы… с ними, погаными колдунами, не связывайся!
Проще объяснил внезапный Елизаров конец Иван Финогеныч. Услыхав о сумасшествии именитого купца, он скривил тронутые синим пеплом стариковские губы, холодно отрубил:
— Жадоба его задавила!
Отрывисто и печально бумкает ранним утром церковный колокол: Ипат Ипатыч сзывает народ к молитве.
В серый прохладный час Устинья Семеновна накидывает поверх черной кички длинный, до пят, атлас, идет по заречью в церковь. Соседки на огородах привыкли видеть в этот час согбенную фигуру жалостной молельщицы, скользящей бесшумно по росной траве за гумнами. Она глядит перед собой влажными блестящими глазами, точно несомая нездешней силой.
— Ума решиться Устинье недолго, — переговариваются соседки через огородные прясла.
— Как есть недолго…
Сочувственно кивают бабы вслед удаляющейся Устинье…
В закоптелом бревенчатом срубе мрачно, пахнет сыростью и тленом. Протяжно бубнит за аналоем Ипат Ипатыч в сером неразличимом халате, часто склоняется в поясных поклонах. С клироса уставщику отвечают не менее протяжно и торжественно-печально.
Устинья Семеновна пробирается осторожно сквозь редкие ряды пожилых баб, занимает обычное свое место. Мужиков почти не видно: время летнее, рабочее, семейский мужик в «церкву» без крайности не ходок, он чин и правила дома держит. Одни старики… Устинья Семеновна мало глядит на то, — недосуг ей осуждать мужиков. Тонкие подтянутые губы ее всю службу шепчут молитвы, и в тех молитвах одна-единственная мольба: «Господи, убереги остатних сынов!» Влажный взор ее светится непросыхающими слезами…
Из церкви Устинья Семеновна выходит последней, бредет домой не спеша, как бы подчеркивая свое усердие, свою скорбь, основательность жаркой своей мольбы.
Иногда — не слишком часто — с Устиньей Семеновной в церковь отправляется синеглазая Секлетинья. Странно видеть эту рослую стройную бабу, бойко семенящую ногами, рядом с согнувшейся старухой. Но вся улица знает, что связывает их — общая боль и тревога за Максима. Обе несут с собой лоскутные подрушники, в земных поклонах и дома избитые, исшорканные. Но никогда не видит народ подле Устиньи Семеновны дочку Дарью. Не до церкви той, — растет рябуха шаматонкой, беззаботной веселушкой…
Все лето усердствовала Устинья в молитве о сыне, ноги немолодые топтала по заречью от избы до церкви. И напрасно топтала она их, свои сохнущие ноги: незадолго до успенья прибыло от Карпухи Зуя письмо — убит-де Максим в земляном окопе, перебил ему германец бомбой ноги и руки.
Осунулся разом Дементей Иваныч, сжался весь, что-то горячее накатило мигом к горлу. Вышел он во двор к амбарушке, припал головой на ступеньку… Лучший сын, первейшая опора!
— Бог-то, он… все видит, все… злодейство мое!.. Жизни конец, подходит, — зашептал он, и широкая его спина стала порывисто колыхаться.
Перед мысленным его взором возник Максим: кряжистый, улыбчатый, светлый весь… в новой кумачовой рубахе, в новых броднях, с централкой за плечами. «Максим!» — хотел крикнуть Дементей Иваныч, но видение уже исчезло…
Лицо Устиньи Семеновны потемнело до черноты, в мутных опустелых глазах ее полилась полая вода. Ни крика, ни стона, ни причитанья… Из оцепененья вывел ее надрывный вой снохи. Секлетинья грохнулась на поплывший у нее под ногами дресвяной пол и, путаясь в складчатом сарафане, забилась словно в падучей…
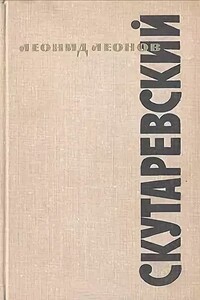
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
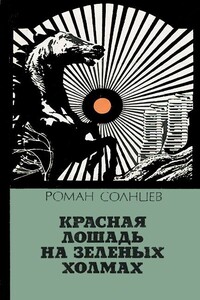
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности Почетного академика, дважды Героя Социалистического Труда Т.С.Мальцева. Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
