Секта Правды - [15]
Отчего так? Писал — верил, а перечитываю — стыдно.
А это потому, что в тебе живут двое, — отзывалась мать, помешивая на огне суп, — один — глухой, который не слышит, что говорит, а другой — немой, который слышит, но сам ничего сказать не может.
Тогда Артём только зря оттопыривал уши, а когда его имя удлинилось на отчество, понял, что мать права, что и в нём тоже живут двое: слепой, который на ощупь, будто впотьмах, водит кистью, и зрячий, который замечает все его промахи, но сам не сделает и мазка.
Из мастерских Артём на каникулы приезжал домой, продолжая под стук паровозных колёс смешивать в голове краски, ища тот единственный цвет, обозначающий будущее. А оно лежало на ладони. На перроне его встречала только мать, а отец избегал его даже в доме за резным палисадом.
«Думал, человеком станешь, — читалось в его глазах, — а ты — мазилка.»
Поначалу Артём обижался, решив, что будущее у каждого своё, а его — не имеет цвета: прислушиваясь к чужим словам, он уже махнул на себя рукой, когда однажды вдруг понял, что расхожие истины звенят как монеты, но правды в них ни на грош.
Свет из окна ложился прямоугольником на холодную мостовую. Высунувшись по пояс на улицу, Дериземля вспомнил парочку, непробиваемую, как булыжник. И зачем скупать искусство, которого недостойны? Артём пожал плечами и подумал, что прожил на свете, как в гостинице, что он везде был чужой, а свои на земле те, кто вращают её в коротких толстых пальцах.
«Ну, черти, — повернулся он к полотну, — вы у меня ещё попляшете, намалюю-ка я вас со спины, с чугунными затылками — вешайте тогда в интерьере.»
С одиночеством в молчанку не поиграешь — Артём давно разговаривал с собой.
И всю жизнь его сопровождал один и тот же сон.
Кисточкой из овечьей шерсти, которую считал золотым руном, Артём поведал и его. Будто идёт он по дороге, а впереди несут гроб. «Кого хоронят?» — спрашивает он. И не дожидаясь, кричит, поражённый страшной догадкой: «Так вот же я — живой!» — «Это тебе только кажется…» — молчат в ответ.
А потом дорога расходится, и на развилке возле заросшего мхом валуна процессию встречает оборванный нищий.
«Налево ли, направо, — ухмыляется он из ночи в ночь, — а всё равно — в ад.»
Просыпаясь, Артём долго трёт глаза, вспоминая, куда ведут все дороги, и подушка у него мокрая от слёз.
«Вот он какой — цвет будущего», — шепчет Артём.
И тут просыпается, растерянно моргая, пока не понимает, что до этого пробуждался во сне.
А прошлой ночью сон изменился. Теперь его траурную процессию встречал ворон, он стучал клювом по валуну, под которым покоился нищий, точно старался соскрести эпитафию:
«Прошёл мимо», — нацарапал поверх неё Артём. Но прежде чем проснуться, почувствовал, как его горло сжимают короткие жадные пальцы.
Труба на крыше дырявила побледневшую луну. Но работа двигалась. Ему оставалось изобразить на картине себя, пишущим картину, на которой бы он изобразил себя, пишущим картину. «Не провалиться бы в эту бездну», — испуганно подумал Дериземля, и у него закружилась голова.
А утром к нему постучали. Никто не откликнулся, и через час дверь выломали, наполнив комнату гулким эхом. Помещение было пустым, но искать художника не стали, забрав то, за чем пришли, — стоявшую на мольберте картину.
ФРАНЦУЖЕНКА
Ресторан был просторным и неуютным, из тех, что днём превращаются в забегаловки. Протянув без # церемоний руку, она представилась слависткой из Сорбонны, приехавшей в столицу улучшать русский.
— Месяц знакомлюсь с Москвой, — проговорила она в нос, с лёгким акцентом.
Кокетливо отстранив мороженое, пригубила кофе и принялась пересказывать статьи путеводителя.
— Город открывается лет через десять, — привёл я слова классика.
Она рассмеялась. Некрасивое, веснушчатое лицо, крупный нос. Потом вывернула на стол сумочку и занесла классика в блокнот. На время она заговорила так, будто сдавала экзамен, боясь ошибиться и радуясь правильному ответу. Но в ней жила напористая молодость, и вскоре она опять превратилась в моего гида. Где-то среди истории кремлёвских соборов я услышал тему её диссертации: «Французская культура в современной России».
— Это то, чего нет.
Она повесила в углу рта вымученную улыбку:
— А наш культурный центр? Вы там бывали?
Я вспомнил казённый, лакированный интерьер.
— Бывал.
За окном густел вечер. Под лиловыми абажурами уже зажгли лампы, по стенам загорелись миньоны.
— Я понимаю, сейчас мало денег, — выпятила она губы, и в её облике мелькнуло что-то утиное. — Вам теперь не до Франции.
Я стал водить чаинки по дну, и она неловко замолчала. В компаниях уже пополз галдёж, поплыл табачный дым. Пиликали мобильные.
А вы чем живёте? — спросила она, чтобы прервать паузу.
Писатель, — и упреждая вежливое любопытство: — малоизвестный.
Она вздохнула. И тут же покраснела:
— Неизвестность избавляет от критиков. Ну вот, из огня да в полымя!
— Критики делают писателя, как свита короля.
Разговор явно не клеился. Приличия ради поговорили о Рембо, Аполлинере, Валери. Обо всех и ни о ком. Я рекомендовал ей переводы Брюсова и добавил, что французов губит остроумие — их легко читать и столь же легко забывать. Она обиделась. Зря я это, не каждому же быть русским.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Социальные сети опутали нас, как настоящие. В реальности рядом с вами – близкие и любимые люди, но в кого они превращаются, стоит им войти в Интернет под вымышленным псевдонимом? Готовы ли вы узнать об этом? Роман Ивана Зорина исследует вечные вопросы человеческого доверия и близости на острейшем материале эпохи.
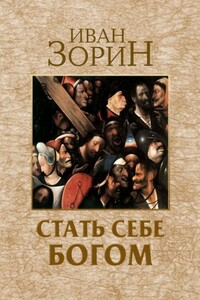
Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге. Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

В Интернетовской группе встретились люди с разными судьбами. Как им понять друг друга? Как найти общий язык?

Переписанные тексты, вымышленные истории, истории вымыслов. Реальные и выдуманные персонажи не отличаются по художественной достоверности.На обложке: Иероним Босх, Св. Иоанн Креститель в пустыне.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Россия, Сибирь. 2008 год. Сюда, в небольшой город под видом актеров приезжают два неприметных американца. На самом деле они планируют совершить здесь массовое сатанинское убийство, которое навсегда изменит историю планеты так, как хотят того Силы Зла. В этом им помогают местные преступники и продажные сотрудники милиции. Но не всем по нраву этот мистический и темный план. Ему противостоят члены некоего Тайного Братства. И, конечно же, наш главный герой, находящийся не в самой лучшей форме.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.
