Се восходим во Иерусалим - [10]
— Простите меня, мама, и отпустите. Я теперь Богу принадлежу, а вас я всегда любить буду и молиться за вас.
Мама слезы утерла, серьезная такая стоит, отвечает:
— Вижу, сынок, что твердо ты дорогу в жизни выбрал. Твердо стоишь ногами, тверже всех моих деток. Что же, живи в монастыре, но мать не забывай.
Она завсхлипывала, но взяла себя в руки и продолжила:
— Как там у вас говорят, когда прощения просят: «Бог простит»? Так пусть же тебя простит твой Бог, а я уже простила. И люблю тебя, сыночек, как прежде, когда ты в детстве мне песенки пел. Надюша, ты не знаешь, маленькой была, а ведь он мне песенки пел колыбельные. Я устану, за день вымотаюсь, шутка ли — столько детей да хозяйство. Прилягу отдохнуть на минутку, а Андрюша тут как тут. По голове меня гладит и поет. Тихонечко, еле слышно: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Мальчик ты мой, храни тебя Бог.
Тут мы опять расплакались, но брату работать надо было, он нас в деревню выпроводил. Ненавязчиво так. Мы в деревеньке жили. Благо, она почти под стенами монастырскими приютилась. Тут мама и осталась пожить. К жизни монашеской приглядеться. Местные-то монастырь не жаловали, но к матери монаха отнеслись сочувственно. Плату за жилье символическую взяли. На целых три месяца мама у сына задержалась, ну, а я домой уехала. У меня ведь семья, работа. Когда с Андреем прощалась, захотелось мне в глаза ему посмотреть. Они у него чудные, синие-синие, как озера наши русские. И, представляете, за все мое пребывание в монастыре я как-то не решалась ему в глаза глядеть. Так только, скользну взглядом, хотя раньше очень любила его глаза. И вот прощаемся, и тут я возьми да и загляни в его чудесную синеокость. И не узнала. Нет, синь все та же. Взгляд другой. Не на меня он смотрел, не сквозь меня, а… как бы это точней сказать: внутрь самого себя. Говорю, а у самой мороз по коже. Я такого взгляда никогда больше не видела. Сказала маме, а та говорит:
— Дак ведь у него теперь все время такой взгляд. Молитвенный.
И вот еще что. Все время моего с ним пребывания он в руках четки перебирал. Ни на секунду не останавливался. Помню, меня это покоробило. Вот, мол, важничает, хочет показать, какой он монах. Глядите-ка, с четками. Пижон. И много позже, уже дома, поняла: так ведь это он молился. Представляете, непрестанно. Работает и молится, с нами разговаривает и молится, плачет, смеется, а все равно молится. Так и стоит у меня перед глазами его рука, перебирающая исхудавшими пальцами монашеские четки.
8
Сегодня он принес мне радость, рассказал об удивительном: оказывается, под Солнцем у меня есть имя. И зовут меня Надежда. Сколько ярких красок, сколько чистых звуков: На-деж-да.
9
Поверьте, мне сейчас тяжело говорить. Всё еще перед глазами. Словно я всё еще там, в этом жутком интернате. Словно опять под дулом автомата. Все время ловлю себя на том, что жду взрыва. Каждую минуту, каждую секунду. Вот сейчас. Появится очередной черный бородач и нажмет секретную кнопку. Безумно страшно. Мы когда сидели там, прижавшись друг к другу, то многие, если не все, думали, что если уж суждено умереть, то поскорей бы. В одном американском кино герой видит на своем зеркале надпись: «Ожидание смерти — хуже самой смерти». И это приводит его просто в паническое состояние. Для нас такое состояние началось, когда боевики стали методично расстреливать заложников. И знаете, грех, конечно, страшный, но когда они приходили, чтобы казнить кого-то очередного, каждый раз молил Бога: «Господи, только бы не меня». А потом не мог смотреть в глаза соседей. Да и они, признаться, глядели куда-то под себя.
Нас всего с персоналом и больными было человек триста — триста пятьдесят. Мне так, по крайней мере, показалось. А бандитов — человек тридцать. Вооружены хорошо. Автоматы, гранатометы, а главное — взрывчатки много. Очень много. Они сразу оплели весь этаж проводами, так что, открыв дверь лечебного кабинета изнутри, можно было вызвать взрыв огромной мощности. Это они нам сами сказали. Там был человек… простите, боевик, которого называли «воином». Боевики называли. Вот он иногда обращался к нам, к заложникам, что делать, как себя вести, что запрещено, ну и так далее. Самое страшное, что от действия, вернее, неправильного на их взгляд действия одного лишь человека могли погибнуть все остальные. А ведь среди пациентов интерната очень много было детей. Глухих детей, слепых. Им ведь сразу не объяснишь, что происходит. Им в туалет хочется… А как сказать, что нельзя? Ведь они только язык жестов понимают. Им воспитатель стала на руках что-то объяснять, а эти подбежали, прикладами ее. Схватили. Хотели расстрелять. Спасибо этому монаху. Он на колени упал перед бандитами, стал объяснять, что к чему. Они ему почему-то поверили. Отпустили женщину. Это еще до того было, как стали заложников расстреливать. Почти сутки расстрелов не было. Пока были попытки начать переговоры. А они, похоже, с самого начала не хотели никаких переговоров. Нам все время говорили, что все мы умрем. Все равно умрем, что живым отсюда не выйдет никто, что они ждут только команды, знака от аллаха, чтобы всех нас взорвать. Там были две шахидки. Все в черном, даже глаза, которые не были замотаны платком — черные. Все равно черные, понимаете? Так вот, одна вела себя спокойно, равнодушно как-то. Такой, знаете, робот. Поступит команда на смерть — сделает все не задумываясь; не поступит такая команда — будет молча переносить волю аллаха. А вторая шахидка — фанатичка — просто ждала, жаждала взрыва. Несколько раз ее свои боевики удерживали от самоубийства, вернее, от массового убийства. У нее вокруг талии была обернута большая бомба, и там, под полиэтиленовой пленкой, хорошо были видны металлические шарики, болты. Ее потом снайпер одной из первых уложил. Иначе она точно взорвала бы бомбу. Очень хотела это сделать.
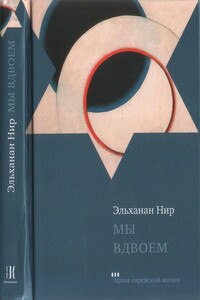
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
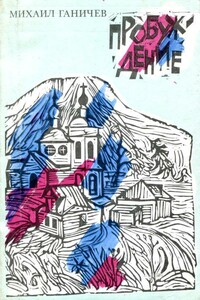
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.