Савва Морозов - [2]
Морозовы — аристократы русского купечества. Во всяком случае, то влияние, которое оказывал этот разветвленный, богатый и до крайности энергичный род на русскую экономику и культуру, поистине громадно.
Для образованного человека наших дней Морозовы — чуть ли не самое известное семейство во всем отечественном купечестве. И пусть их род далеко не самый древний — его корни уходят в последнюю треть XVIII столетия, а некоторые купеческие династии были основаны много раньше, в XVII и даже XVI веках, — относительная «молодость» рода не умаляет той огромной роли, которую сыграли его представители в судьбах Российской империи. Настоящий расцвет династии пришелся на вторую половину XIX века. В это время сама фамилия «Морозов» стала синонимом предпринимательской мощи и благосостояния. Морозовы-миллионеры, Морозовы-меценаты, Морозовы — общественные деятели… Многие из них достигли вершин не только в торгово-предпринимательской сфере, но также в самых разных областях культуры.
Купец и общественный деятель П. А. Бурышкин, причисляя Морозовых к сливкам купеческого сословия, писал: «С именем Морозовых связуется представление о влиянии и расцвете московской купеческой мощи. Эта семья, разделившаяся на несколько самостоятельных и ставших различными ветвей, всегда сохраняла значительное влияние и в ходе московской промышленности, и в ряде благотворительных и культурных начинаний. Диапазон культурной деятельности был чрезвычайно велик. Он захватывал и «Русские ведомости», и философское московское общество, и Художественный театр, и музей французской живописи, и клиники на Девичьем Поле».[2] Представители второго и третьего поколений рода Морозовых один за другим пускались в стремительный полет, быстро находя применение той кипучей энергии, которой так славилось их семейство. Но их полет не удался бы, если бы предки не обеспечили им хороших стартовых позиций…
Основателем купеческого рода Морозовых стал дед Саввы Тимофеевича — крепостной крестьянин Савва Васильев сын (1770–1860). Личность незаурядная, обладавшая колоссальной энергией и силой воли, он неустанным трудом добился невиданных высот.
О Морозовых написано великое множество статей, есть книги, имена представителей этого рода то и дело мелькают в мемуарах современников. И всякий раз, когда речь заходит об этой фамилии, не забывают упомянуть, а иной раз и просто подчеркивают одно немаловажное обстоятельство: Морозовы происходили из старообрядческой среды.
Но просто сказать о старообрядческих корнях Морозовых — значит ничего не сказать. К тому времени, когда на арене русского предпринимательства появился Савва Тимофеевич, старообрядчество раздробилось и сильно разветвилось. Староверы рассеялись по просторам Российской империи и во множестве жили за ее пределами. Отдельные их группы, различающиеся особенным отношением к священству, к догматам и канонам и т. д., назывались «согласия», или «толки». Сумма старообрядчества к началу XIX столетия — великая пестрота. Время от времени между согласиями вырастала пропасть даже больше, чем между ними и Синодальной церковью.
Так вот, Савва Васильевич происходил из Гуслиц — области, давно облюбованной староверами, обладающей высокой культурой и большой экономической самостоятельностью. Выходцы из Гуслиц могли опереться на мощную родственную и общинную поддержку. Эта местность охватывала часть восточного Подмосковья (в частности, Богородский уезд), а также западные окраины Владимирского и Рязанского края. Таким образом, гуслицкое старообрядчество жило по соседству с главным экономическим центром коренной России — Москвой и связано было с ней множеством интересов. Гуслицы являлись «традиционным местом расселения старообрядцев всех согласий с преобладанием белокриницкого».[3] Представители этого согласия — в их числе сам Савва Васильевич Морозов и его ближайшие потомки — принадлежали к числу «поповцев», то есть имели собственное священство.[4] А значит, дистанция между ними и Синодальной церковью была несколько меньше, нежели между ней и представителями более радикальных «толков». Да и власть относилась к «попбвцам» более лояльно. Так, им дозволялось занимать ряд руководящих должностей (к примеру, пост председателя Биржевого комитета), что было совершенно невозможно для тех старообрядцев, коих закон трактовал как «принадлежащих к вредным сектам».[5] Немало выходцев из огромного рода Морозовых с течением времени перешли в единоверие или стали прихожанами Православной Синодальной церкви. Среди них не получила распространение твердокаменная ортодоксия. Применяясь к быстротекущим обстоятельствам предпринимательской деятельности, Морозовы держались за веру предков с умеренной цепкостью. Сестры Саввы Тимофеевича Морозова вышли замуж за православных и впоследствии оставили старый обряд. Так что у него было немало примеров «легкого» отношения к религии среди его собственной родни. Во времена его блистательного деда купцы-староверы «стояли в вере» весьма прочно, но постепенно эта прочность размылась…
В Богородском уезде Московской губернии была расположена деревня Зуево. Здесь в семье крепостного крестьянина и родился Савва Васильевич, впоследствии получивший фамильное прозвище «Морозов». Зуево принадлежало помещику В. А. Всеволожскому, а затем — коллежскому советнику Г. В. Рюмину. Напротив Зуева, на противоположном берегу реки Клязьмы, позднее возникнет село Орехово. А в те далекие времена на месте будущего села еще «стоял большой сосновый бор, по берегу Клязьмы тянулись густые заросли орешника. Среди соснового бора, на крутом правом берегу было расположено кладбище, а около него находился небольшой кирпичный завод и постоялый двор».
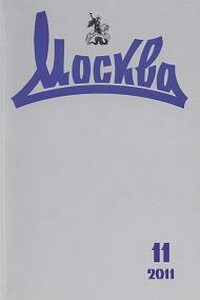
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
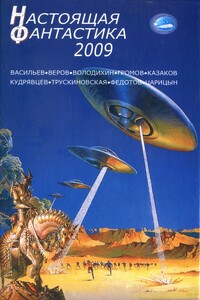
Специалист по марсианской археографии Егор Горелов нашел редкую рукопись. Но на ее страницах написано слово, при помощи которого можно убить человека. Оставить ли эту рукопись на полке хранилища, где ее может прочесть кто угодно — или попытаться уничтожить, несмотря на тот факт, что марсианские книги не подлежат уничтожению?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.