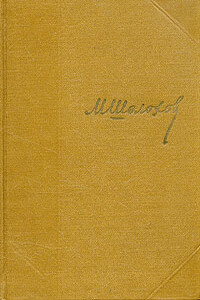Самый счастливый год - [16]
— Фу, — облегченно вздохнул Колька, справившись с моим заданием.
— Все? — заглянул я в его тетрадку. — Ну, а ты не знал, отчего у тебя двойки да тройки бывають. Вот постарался — и хорошо получилось. Четверка верная будить.
— Шутишь?
— Спорим?
— Ладно, если поставять четверку, я у Егора твои патроны стырю и верну тебе.
— Не нужны они мне…
— Тогда пойдем кататься.
— Пойдем. Только давай и Пашку прихватим.
— У нас же одни коньки.
— А мы по очереди.
Вышли на улицу: я — в лаптях, сплетенных Надей, Колька — в бурках с галошами. Только что перестал падать снег, глаза резало белизной. Пока к этой белизне не привыкнешь, смотришь прищурившись, подслеповато.
Пашка жил по соседству — в тридцати шагах. Мы по припорошенной тропке направились к нему — я впереди, Колька следом.
Едва я отворил дверь, как столкнулся с Пашкой носом к носу. Он как раз возвращался из закута — давал корове сено.
— Уроки сделал? — спросил я.
— По чтению осталось.
— Вечером прочитаешь?
— Прочитаю. А что?
— Айда на коньках!
— На чьих?
— Колька достал. Он за дверью дожидается.
Пашка покрутил головой: нет ли рядом матери.
— Идем. Корову накормил — что еще?
Речка Снова от Пашкиной хаты близко, не далее пятидесяти метров. К речке с крутого берега ведут скользкие ступеньки. Скользкие они по одной причине. Внизу — прорубь, где женщины полощут белье. Когда они его несут, с белья капает вода и тут же замерзает на ступеньках. Потому спуск небезопасен.
Но это взрослые спускаются еле-еле. Мы, мальчишки, поступаем просто: скатываемся, как с горки. Только б в прорубь не угодить. Впрочем, угодить в нее может лишь слепой: прорубь находится немного в стороне от сбегающей с кручи дорожки.
Мы подошли к спуску и друг за дружкой съехали на стекольный, надежный уже, лед. У берегов замело его снегом, а середина реки была чистая, подметенная ветром.
— Ну, кто первый? — спросил Колька, снимая с плеча коньки.
— Я, — вызвался Пашка.
— Не, пусть он, — кивнул на меня Колька («Знание — сила!» — вспомнил я свое открытие).
Пашка необидчиво махнул рукой:
— Он так он.
Я на коньках маленько кататься умел. И не кататься даже, а стоять. Если меня тянуть за руку или подталкивать сзади, то я мог еще с горем пополам катиться. А чтобы самому разогнаться — ни-ни.
Примерно так же освоил коньки и Пашка: мы с ним прошлой зимой вместе учились.
А вот Колька уже заправски катался. Оно и понятно: Егору его друзья часто давали коньки на день-два, а Егор — Кольке. Стыдно было бы ему не уметь!
Коньки крепились к обуви веревками, которые у взъема закручивались крепкими, длиной сантиметров по двадцать, палками.
— Не больно? — спрашивал Колька, приспосабливая к лаптю первый конек (мне это дело он не доверил).
Было больно, особенно пальцам, но я терпел. Лапоть мой под натиском веревок сжался, сморщился.
— Порядок. Давай вторую ногу.
Таким же макаром Колька прикрутил и другой конек.
— Теперь катись.
Я попытался сделать по гладкому льду шаг, но коньки разъехались в разные стороны.
— Давай руку, — бесцеремонным тоном, каким я командовал Колькой полчаса назад, сказал он.
Он взял меня за руку и потащил за собой. Шахтерские галоши его почему-то не скользили, Колька бежал по льду быстро и легко. Вот он достиг наивысшей скорости и, отцепив свою руку от моей, юркнул в сторону, а я, подгоняемый попутным ветром, далеко покатился один. Но тут левый конек неожиданно попал в трещину, и я спикировал. Упал на колени, больно ушибся.
Подбежали Колька с Пашкой, спросили в один голос:
— Не убился? А вообще понравилось?
— Понравилось, — сквозь слезы ответил я. — Кто следующий? — спросил и принялся откручивать палки.
— Почему так мало?
— И вам же надо, — не сознавался я в истинной причине. — А то вечер скоро.
И тут Пашка сказал:
— Ну их, коньки, айда, ребя, на санях кататься.
— На каких?
— На колхозных. Возле конюшни стоять. Анадысь взрослые ребята укатили их и целый вечер катались.
— А сторож?
— Он приходить, когда стемнеить.
Мы с Колькой переглянулись и приняли Пашкино предложение без слов. К тому же мороз сегодня слабый, не страшно, если с саней свалишься в снег.
По тем же скользким овальным ступенькам мы вскарабкались на берег. Запыхались, Колька чуть коньки вниз не упустил: они у него связанные висели на плече.
На санях, я знаю, взрослые ребята и подростки лет четырнадцати-пятнадцати катались часто. Сядет их десятка полтора и несутся со смехом, с шумом-гамом в низ покатого оврага, что начинается невдалеке от колхозного двора. И нам, мелкоте, иногда выпадала удача скатиться со взрослыми. Сани неслись с ветерком, опасно кренясь на поворотах. Иногда и опрокидывались, и тогда все огромным черным комом летели в сугроб. Потом кто-то искал в снегу шапку, кто-то вязенки, а то и валенок, смеха и шума было еще больше. И странно, что при этом никто не получал ушибов. А может, кто и получал, но помалкивал — во избежание насмешек.
Сторож Пантелеич, сухонький, вечно покашливающий, незлой мужичонка, во время катания обычно стоял на верху оврага и, когда сани поднимали туда, жалостливо просил:
— Только не поломайте сани, а то я буду отвечать. И привезите их на место.
— Хорошо, Пантелеич, привезем, — успокаивали его ребята, но он не уходил и продолжал наблюдать за катанием. Может, в эти минуты вспоминал он свою далекую молодость, тоже, должно, озорную и шумную, и теплое чувство былой радости согревало вдруг его душу.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.
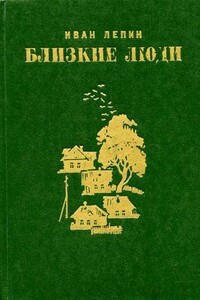
Повести и рассказы Ивана Лепина о наших современниках, о людях труда. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, любви, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
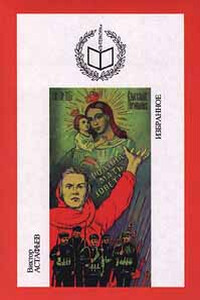
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.