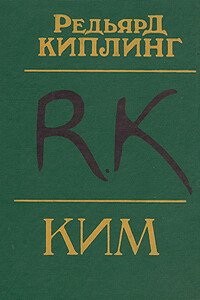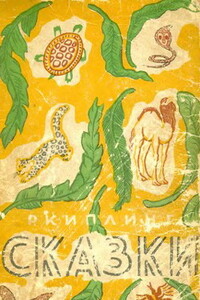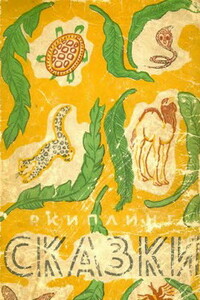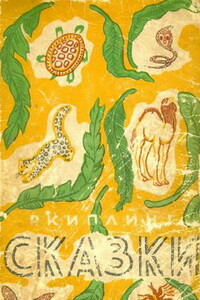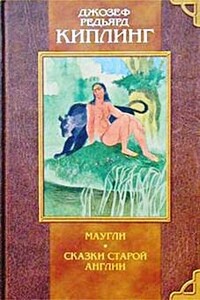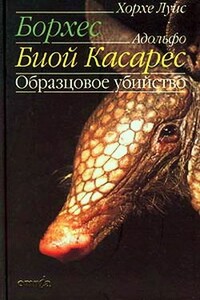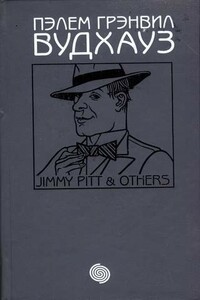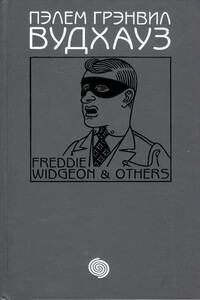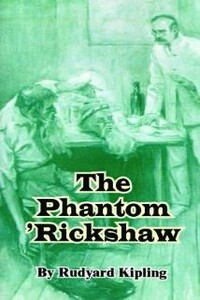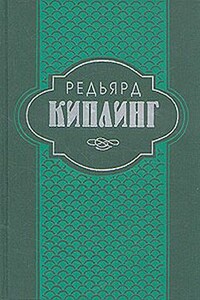— Что же это такое? Насколько я понимаю, это какое-то покушение написать нечто на испорченном до чрезвычайности языке, со стороны, — он не без явного подозрения взглянул на меня, — со стороны кого-то… очевидно не обладающего ни малейшим литературным навыком.
И он тихонько произносил хорошо мне знакомые имена: Поллок, Эркманн, Таухниц, Генникер…
— Можете вы мне все-таки сказать, что же эта испорченная греческая грамота означает, в чем тут суть-то? — спросил я.
— «Я был много раз донельзя утомлён за этим делом», — вот какой смысл.
Он отдал мне бумагу, и я ушёл, не сказав ни единого слова благодарности, не дав никаких объяснений. И вот мне выпала удача, мне — одному из всех людей, написать удивительнейший в мире рассказ — ни более ни менее как повесть грека, бывшего рабом на галере, повесть, переданную им самим. Нет ничего мудрёного в том, что грёза Чарли показалась ему действительностью. Судьба, обычно заботливо закрывающая двери позади нас за всеми минувшими эпохами жизни, на этот раз как бы зазевалась, и Чарли удалось, хотя он этого и сам не ведал, заглянуть туда, куда не дозволено смотреть человеку, хотя бы он был вооружён самым совершённым знанием. Сверх того, он ровно ничего не понимал в том, что он продал мне за пять фунтов, и ему было суждено остаться в этом неведении, ибо банковские писцы не знают, что такое переселение душ, и обычное коммерческое образование не включает в себя обучение греческому языку. Он снабдил меня материалом до такой степени достоверным, что именно из-за этой достоверности ему никто не поверит, и все возопят, что мой рассказ бесстыдная выдумка и подделка.
— И я, я один буду знать, что это совершённая и абсолютная правда. Я, я один держал в своих руках этот драгоценный камень, чтобы придать ему форму и отшлифовать! И мне захотелось плясать среди египетских божеств музея, но как раз в это время меня заметил полицейский и направил свои шаги в мою сторону.
Теперь мне оставалось только уговорить Чарли рассказывать, а это было не так уж трудно. Но я забыл про эти проклятые книги поэтов. Он приходил ко мне время от времени, настолько же бесполезный для меня, как перегруженный фонограф, — упоённый Байроном, Шелли и Китсом. Зная теперь, чем был юноша в своей прошлой жизни, и страшно боясь упустить хоть одно слово из его болтовни, я не умел скрыть своего уважения и интереса к нему. Но он истолковывал все это как дань уважения теперешней душе Чарли Мирса, для которого жизнь была так же нова, как для Адама, а весь её интерес заключался в чтении поэтических произведений; он истощал моё терпение декламацией поэтических отрывков, но не своих, а чужих. И я от души желал, чтобы все английские поэмы были вычеркнуты из памяти всего человеческого рода. Я проклинал все эти славнейшие имена, потому что они столкнули Чарли с пути непосредственного повествования и должны были со временем навести его на подражание им; но я сдерживал своё нетерпение до тех пор, пока первый поток энтузиазма успокоится сам по себе, и юноша снова вернётся к своим грёзам.
— К чему рассказывать вам, что я думаю, когда эти молодцы пишут такие вещи, что только ангелам впору их читать, — проворчал он однажды вечером. — Почему вы не напишите чего-нибудь в этом роде?
— Я надеюсь, что вы мне в этом поможете, — сказал я, делая усилие над собой.
— Я же дал вам историю, — сказал он коротко, погружаясь снова в свою «Лору».
— Но мне нужны подробности.
— Это то, что я выдумываю об этом проклятом корабле, который вы называете галерой? Да ведь это очень просто. Вы и сами можете выдумать что-нибудь в этом роде. Пустите-ка ещё немножко газ, я буду опять читать.
Я охотно сломал бы колпак от газа над его головой за его поразительную глупость. Конечно, я мог бы сам выдумывать такие вещи, если бы я знал то, о чем Чарли даже не подозревает, что он знает. Но так как двери-воспоминания о прошлой жизни были закрыты за мною, я мог только ждать, пока его молодость возьмёт своё, и стараться поддерживать в нем хорошее настроение. Минутная неосторожность могла разрушить драгоценное откровение; когда-нибудь он выбросит свои книги — он их все держал у меня, потому что его мать была бы возмущена такой безрассудной тратой денег, если бы только видела эти книги, — и снова погрузится в свои грёзы. А пока я проклинаю всех поэтов Англии. Податливый ум банковского клерка был перегружен и раскрашен ими, но в то же время то, что он читал, отняло у него прежнюю неиспорченную форму мышления, а в результате получался смешанный гул чужих голосов, похожий на шум и жужжанье в телефоне в Сити в самую деловую пору дня.
Он говорил о галере — своей собственной галере, которую он так хорошо знал, и сопровождал свой рассказ иллюстрациями, заимствованными из «Абидосской невесты». Он обрисовывал переживания своего героя цитатами из «Корсара» и вдавался в глубокомысленные, доводившие до отчаяния моральные размышления на тему из «Каина» и «Манфреда», рассчитывая, что я все это сумею использовать. И только тогда, когда речь касалась Лонгфелло, в нем сталкивались какие-то противоречивые влияния, и я знал, что Чарли говорил правду, говорил о том, что осталось в его памяти.