Салон в Вюртемберге - [3]
«Сурово! – сказал он, прибегнув к еще довольно снисходительному эпитету. – Это что же за язык такой?»
«Я провел детство близ Хейльбронна. Недалеко от Штутгарта».
«Вы жили там после войны?»
«Сразу после войны».
«Вы поете? Вы музыкант?»
«Я виолончелист».
И я добавил: «По крайней мере, на гражданке я виолончелист». Потом уточнил: «Был виолончелистом».
Он встал. «Прекрасно, – сказал он. – Это нужно отпраздновать. Сейчас я угощу вас конфеткой». Сунув руку в карман, он в третий раз извлек оттуда свои карамельки, но я снова ответил решительным «нет!». «Я просто ребенок, – сказал он, понизив голос и словно пытаясь убедить в этом самого себя. – Я кончил Национальную школу хартий по специальности „архивист-палеограф" и сейчас завершаю работу над диссертацией в архивах Бона и Эпервана, но единственная подлинная страсть моей жизни – конфеты». Жесткие конфетные обертки издавали противный хруст, причем фантики карамелек-колокольчиков и лилльских «Quinquins» хрустели гораздо громче бумажек от «Hopjes». Моя нелюбовь к конфетам, несомненно, во многом объясняется этим неприятным звуком. Я снова отказался, повторив, что мне вырвали коренной зуб, рот еще не отошел от заморозки и у меня нет никакого желания есть конфеты. Но он настойчиво совал их мне, твердя: «Ничего, съедите попозже!» Чтобы отделаться, я выбрал одну из «Hopjes» и сунул ее в карман.
«Ну вот и хорошо, а теперь слушайте, – сказал он. – Я спою вам кое-что понежнее, чем ваша считалочка. Спою самую прекрасную из всех песен, какие знала земля:
У него был очень красивый голос, куда красивее, чем тот, что судьба отпустила мне. Наконец он смолк. Он выглядел взволнованным. Правду сказать, я растрогался не меньше его. Он вынул из кармана пайковые сигареты – голубая пачка, истертая, помятая, издавала терпкий запах, оставивший чудесное воспоминание, хотя, честно говоря, приятным он был только в памяти, – и рывком сунул их мне чуть ли не в лицо. Это долговязое и романтическое тело отличалось резкостью жестов, которую Сенесе не всегда мог сдержать.
Я встал. Мне с трудом удалось извлечь сигарету из пачки казенных «Голуаз». Закурив, я тотчас бросил ее: едкий табачный дым и кровь, наполнявшая мой рот, образовали невыносимую, тошнотворную смесь. Я увидел, что Сенесе вновь завязывает шнурки своих ботинок, притом стягивая их тройным узлом (у него были вечные, чаще всего неразрешимые проблемы со шнурками, галстуками и поясами). Взяв свой берет, он натянул его, старательно заломив над левой бровью. Потом спросил номер моей спальни в казарме. Я ответил, что добился разрешения снимать жилье в городе, чтобы упражняться в игре на виолончели вечерами после службы во дворике, выходившем к кондитерской «Дюшениль».
«Люблю поесть!» – сказал я, изображая оголодавшего обжору.
«Не беспокойтесь, я тоже, – ответил он успокаивающим тоном. И повторил так серьезно, словно речь шла о высокой истине: – Я тоже люблю поесть». Он произнес эти слова со смиренной, почти печальной миной. Потом сообщил, что и сам снимает просторную гостиную у одной старой девы семидесяти семи лет, на втором этаже большой красивой виллы, близ леса. «Я непременно представлю вас мадемуазель Обье, – пообещал он мне. – Она поет песни, которые любила ее матушка».
Он подошел к кушетке, на которую я снова уселся. Взял меня за руку. И долго пожимал ее.
«Наконец-то хоть один интеллигентный человек», – сказал Сенесе.
«Это потому, что у него не хватает зуба», – возразил я.
Сенесе было двадцать четыре года. Я был ненамного старше его, и мы здорово веселились. Он был женат, имел маленькую дочь. Его жену звали Изабель, а дочку Дельфина. Изабель жила в Бургундии; она снимала домик в Пренуа, километрах в пятнадцати от Дижона, где преподавала немецкий (она знала его весьма посредственно, что, впрочем, отнюдь не мешало ей учить этому языку других; как ни странно, мы с ней никогда, за исключением самых первых дней знакомства, не злоупотребляли этим лингвистическим «родством», которое встретило бы у меня лишь глухое, резкое и совершенно неоправданное отвращение). Сначала Изабель получила в Дижоне работу лишь на время стажировки Флорана Сенесе, которую он должен был пройти, после окончания Школы хартий, в архивах Бона и Эпервана, в двух часах езды от города. Потом она отсрочила переезд в парижский регион, где служил Флоран Сенесе, и уехала в Пренуа – из-за маленького садика возле дома, из-за того, что Дельфина пылко полюбила свою школьную воспитательницу, и, наконец, из-за относительной близости родителей Изабель, живших в Юра, возле Лон-ле-Сонье. Таким образом, каждую пятницу, или, скажем так, почти каждую пятницу, Изабель с Дельфиной приезжали поездом в Сен-Жермен-ан-Лэ и отбывали назад в воскресенье, ближе к вечеру, чтобы вернуться, уже в полной темноте, в свой «рай» – так они окрестили сад в Пренуа, состоявший из кустов смородины и пары дубов, а также берегов Сюзона, Уша и Бургундского канала. Не сомневаюсь, что места там дивные, – сам я их не видал.
Странный человек был этот Сенесе – одержимый, нервозный, блестящий, неистощимый. Он совершенно не любил музыку, за исключением разве что колыбельных и несчетного количества считалочек-припевок. Любил крепкий алкоголь и терпеть не мог вина, в отличие от меня. Впрочем, это замечательно, что основные вкусы людей обрекают их на одиночество. Ни в дружбе, ни в любви не следует добиваться сходства своих пристрастий с чужими, иначе вам грозит либо сцепиться врукопашную, либо умереть со скуки. Я давно заметил, что только люди, ни в чем не схожие друг с другом, никогда не затевают ссор. Если Сенесе был чудаком (чтобы не сказать более), то он отнюдь не был мифоманом. Но зато он обожал всяческие розыгрыши, которые могли длиться и час, и два, – мне они казались чересчур долгими и изрядно утомляли. Как-то в середине дня (мы разлеглись, подальше от чужих глаз, под жарким солнцем на лужайке, которая тянулась вдоль задней глухой стены душевых Генштаба) он вдруг принялся уверять меня, что в детстве, во время туристической поездки на Святую землю, ему довелось вместе с отцом ужинать в таверне «Добрый самаритянин», за тем самым столом, где некогда сидел Господь; Он явился им, и они все вместе пили кофе; конечно, Он сильно постарел, но по-прежнему был преисполнен горечи и недоволен своим земным царством. В другие дни он таким же манером пересказывал мне свои беседы с Дарием, Хаммурапи, Юлием Цезарем, Папой Пием XI. Сенесе был архивистом и свободно владел многими древними языками; я же, в противоположность ему, всегда ненавидел, (и ненавижу по сей день) латынь – язык, который я так и не выучил, поскольку в Бергхейме мне его преподавали отвратительно – путано и непонятно. Он быстро подметил во мне это отвращение. О Боне и Дижоне он почти не вспоминал. Просто бегло упомянул, что пишет диссертацию о какой-то утраченной древности, затерявшейся в Бургундском герцогстве, на берегах Дэны, среди местных природных красот. В настоящее время он состоял шофером при довольно симпатичном малопьющем подполковнике. Сенесе утверждал, что его начальник почти ученый – знает чуть ли не все буквы алфавита (я уже говорил, что он был большой мастер создавать мифы). Остается добавить, что подполковник этот обладал одним большим и неоспоримым достоинством, а именно не высовывал носа из дому, а если и выходил, то, будучи офицером автотранспортных войск, либо проводил большую часть времени в манеже, либо ездил верхом по лесу.
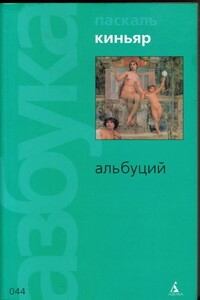
Эта книга возвращает из небытия литературное сокровище - сборник римских эротических романов, небезызвестных, но обреченных на долгое забвение по причинам морального, эстетического или воспитательного порядка. Это "Тысяча и одна ночь" римского общества времен диктатуры Цезаря и начала империи. Жизнь Гая Альбуция Сила - великого и наиболее оригинального романиста той эпохи - служит зеркалом жизни древнего Рима. Пятьдесят три сюжета. Эти жестокие, кровавые, сексуальные интриги, содержавшие вымышленные (но основанные на законах римской юриспруденции) судебные поединки, были предметом публичных чтений - декламаций; они весьма близки по духу к бессмертным диалогам Пьера Корнеля, к "черным" романам Донасьена де Сада или к объективистской поэзии Шарля Резникофф.
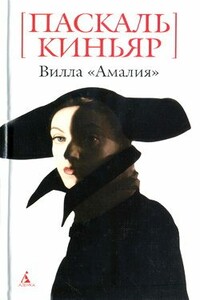
Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных писателей, лауреат Гонкуровской премии (2002), блистательный стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры, а также музыки эпохи барокко.После череды внушительных томов изысканной авторской эссеистики появление «Виллы „Амалия"», первого за последние семь лет романа Паскаля Киньяра, было радостно встречено французскими критиками. Эта книга сразу привлекла к себе читательское внимание, обогнав в продажах С. Кинга и М. Уэльбека.

Паскаль Киньяр — блистательный французский прозаик, эссеист, переводчик, лауреат Гонкуровской премии. Каждую его книгу, начиная с нашумевшего эссе «Секс и страх», французские интеллектуалы воспринимают как откровение. Этому живому классику посвящают статьи и монографии, его творчество не раз становилось центральной темой международных симпозиумов. Книга Киньяра «Тайная жизнь» — это своеобразная сексуальная антропология, сотворенная мастером в волшебном пространстве между романом, эссе и медитацией.Впервые на русском языке!
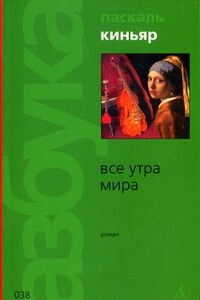
Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных европейских писателей, лауреат Гонкуровской премии (2003), блестящий стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры и музыки эпохи барокко.В небольшой книге Киньяра "Все утра мира" (1991) темы любви, музыки, смерти даны в серебристом и печальном звучании старинной виолы да гамба, ведь герои повествования – композиторы Сент-Коломб и Марен Марс. По мотивам романа Ален Корно снял одноименный фильм с Жераром Депардье.
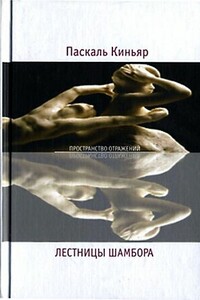
В долине Луары стоит легендарный замок Шамбор, для которого Леонардо да Винчи сконструировал две лестницы в виде спиралей, обвивающих головокружительно пустое пространство в центре главной башни-донжона. Их хитроумная конфигурация позволяет людям, стоящим на одной лестнице, видеть тех, кто стоит на другой, но не сходиться с ними. «Как это получается, что ты всегда поднимаешься один? И всегда спускаешься один? И всегда, всегда расходишься с теми, кого видишь напротив, совсем близко?» – спрашивает себя герой романа, Эдуард Фурфоз.Известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии Паскаль Киньяр, знаток старины, замечательный стилист, исследует в этой книге тончайшие нюансы человеческих отношений – любви и дружбы, зависти и вражды, с присущим ему глубоким и своеобразным талантом.

Киньяр, замечательный стилист, виртуозный мастер слова, увлекает читателя в путешествие по Древней Греции и Риму, средневековой Японии и Франции XVII века. Постепенно сквозь прихотливую мозаику текстов, героев и событий высвечивается главная тема — тема личной свободы и права распоряжаться собственной жизнью и смертью. Свои размышления автор подкрепляет древними мифами, легендами, историческими фактами и фрагментами биографий.Паскаль Киньяр — один из самых значительных писателей современной Франции, лауреат Гонкуровской премии.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.