С четверга до четверга - [13]
Мучение отходило: две ладони, край кружки, теплые глотки, радужные кольца под веками. Сморщенная душа медленно распускала складки; подземно, глухо бормотала в ней благодарность.
— Я правда не помню, — шептал он, — ей-богу…
Он в кубовой ковырял гвоздиком дверцу топки, а сам все поглядывал на стену: там, за стеной, что-то творилось. Там был кабинет главврача и за столом сидели трое, а еще кто-то стоял у двери; на стекле стола плавало солнечное пятно, ему хотелось накрыть его ладонью, пальцы ткнулись в стену, пятно перешло на руку, пригрело кожу и пропало: на него наползла жесткая тень чьего-то голоса.
— Так и не помнит, где родился? На фронт не хочется…
— Нет, симуляция исключена: у него стойкая амнезия.
— А эпилептиформные явления?
— Нет.
— Тогда выписывайте его — он уже месяц ходит. Куда-нибудь. — Жесткая тень оборвалась, за кремнистыми песчинками пробивалась знакомая усталость другого мудрого голоса.
— В таком виде он нетрудоспособен, нет родных, адреса, есть все-таки афазия частичная, возможен повторный арахноидит…
Опять наползла наждачная интонация, в ней было равнодушное безучастие, он боялся его:
— Не знаю, белобилетник, лечению не поддается, но место занимает. Пусть решают наверху — может, он им нужен?
Молчание, чреватое бессловесной опасностью. И сдвиг: сквозь стену мелькнула белая комната, белый халат, коротко стриженная женская голова с маленьким мускулистым ртом. И другая голова — с большой залысиной, всезнающие зрачки, устало борющийся голос, в котором вяло, но упрямо повторялся протест, отекшее знакомое лицо, становившееся брезгливым и хмурым.
Больной стоял, не убирая руку со стены, на висках бисерился пот. Он не понимал слов — он понимал звуки голосов, их или опасную или дружественную суть. И когда все замерло на одной нитевидной паузе, темноту накрыло прохладным облаком еще одного, третьего голоса. В его сугробных кристалликах вспыхнул солнечный зайчик:
— Разрешите, он у меня побудет… Пусть, я и такого его возьму.
(И толчки в груди: …возьму, возьму…)
— Пусть хоть печи топит пока. В коридоре. Куда ж ему? Не на мороз же его…
Это был единственный, ее, голос.
Кирпичная стена теперь пропускала медленный свет. Такой свет бывает за рекой рано утром, в тумане. На той, луговой, стороне. Когда идешь к реке с бреднем и двумя удочками. От ледяной росы деревенеют босые пальцы, на туманной воде четко и тонко ржавеют стоячие камышинки, а потом плеснет щука в старице, и все раздробится, сдвинется, и вот — только старые кирпичи сырой стены, жестяной куб для кипятка, холодный шлак в совке на цементном полу. Но и отзвук последний, оттуда:
— Я его Ваней зову, Ваней…
Ваня вобрал воздух, колени обмякли, но пальцы ног чуяли еще миг не цемент пола, а холодок утренней травы. Он сел на лавку у двери, не моргая, уставился под ноги. Стукало в горле сердце, но он не шевелился: ждал. Ее ждал.
— Это печь, — сказала сестра наставительно. — А это растопка. И торф. Понял, Ваня?
Он старался, но ничего не понимал. В руку сунули спичечный коробок, и он с удивлением почувствовал, что рука проснулась. Сначала правая, потом — левая. С недоверием следил он, как его собственные руки примеривали щепки, складывали их в топке маленьким шалашом, как они сдвигали кругом брикеты торфа, а потом пальцы ощупали коробок, вытянули спичку, чиркнули, и внезапно трескучей радостью вспыхнула, съежилась береста.
Черная кайма дыма потянулась в дымоход, потащила за собой зубчатый огонь, в трубе, усиливаясь, загудело, все выше, выше — на весь коридор.
— Во! — сказал он.
— Ну, вот — видишь! — с торжеством сказала сестра.
А он все смотрел на свои потрескавшиеся, отмытые в госпитале пальцы с тупыми толстыми ногтями. Где он их раньше видел? Значит, было раньше?
Оно не здесь.
Вот это широкое устье русской печи — не здесь. В кирпичной пещере разгорается пламя лучин, бархатится сажа на челе, корежатся, лопаются палочки; за слепым оконцем в осиновой ранней мгле перекликаются сонные петухи. «Да где ж тот рогач проклятый?» — сказал бабий, с хрипотцой голос. Уголек выстрелил, выкатился на подметенный загнеток, шипя, угасал, пропадал в неведомой древней тьме.
Ваня приоткрыл рот, невидяще глянул сквозь сестру в пустынный больничный коридор. На полу подсыхали следы швабры, пахло карболкой, каленым чугуном заслонки.
— Пойдем, — по-новому, огрубевшим голосом сказала сестра, — обмундировку твою получим. На сегодня хватит с тебя.
— Пей чай. Хлебца бери. Чего смотришь-то?
Он смирно сидел за столом, но все озирался. За головой тикали ходики, с этажерки улыбалась глупая фарфоровая кошка — все Ледины дети. (Он не выговаривал «Люда»). А это что? Над кроватью дыра в обоях была заклеена плакатом: моряк с оранжевым лицом хмурился вдали, в синьке белели чайки, толстые буквы приказывали: БЕРЕГИ РУБЕЖИ РОДИНЫ! А на плакат иголкой пришпилена карточка: девчонка в гимнастерке сидит на бревне, серьезная, толстоногая. На левой груди — маленькая медаль.
— Это я, — сказала сестра. — В сорок третьем. Под Харьковом. Похожа?
Он не понял, но закивал большой головой.
— Ну, пей — простынет, — сказал добрый голос. — Пей, ничего не бойся.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Исторический роман Н. Плотникова переносит читателей в далекий XVI век, показывает столкновение двух выдающихся личностей — царя-самодержца Ивана IV Грозного и идеолога боярской оппозиции, бывшего друга царя Андрея Курбского.Издание дополнено биографической статьей, комментариями.
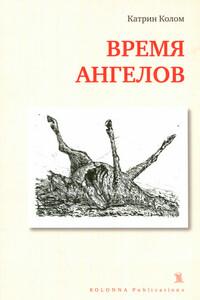
В романе "Время ангелов" (1962) не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг палочки в ангельских руках. Благоухает трава, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких планет.

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.