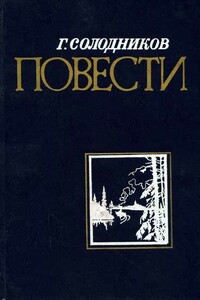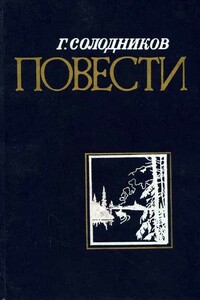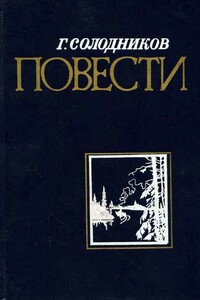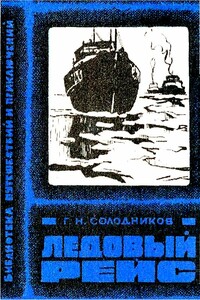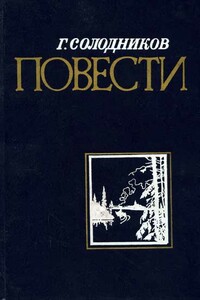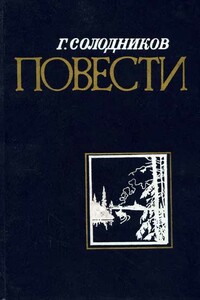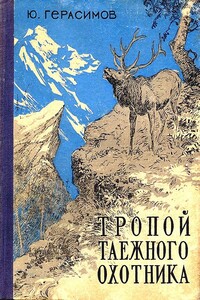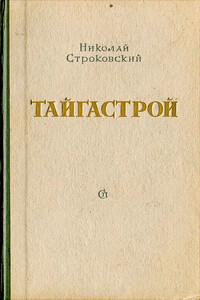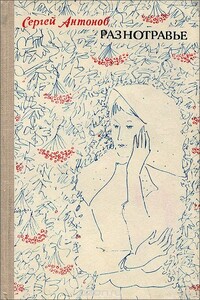Потянулись четыре долгих года.
Лето в рудничном городке… Мать, как всегда, уходит в лес. А я ставлю в камышовую сумку четверть с молоком и тащусь на рынок. Бренчать там воронкой, пол-литровой банкой-мерой и прятать подальше пахнущие потом и табаком «самсоном» обесцененные червонцы. На обратном пути тут же, на толчке, надо купить, если удастся, буханку хлеба, колючего и горького от половы и полыни.
Осень… Выкопано и выдергано все на огородах. А мы, пацаны, идем после школы с лопатами перекапывать гряды. Сплошь перерыв целую сотку, набираем единственное ведро картошки.
Зима… В старых, кое-как залатанных валенках, голодный, я иду по завьюженной дороге. Изо всех своих худосочных силенок толкаю воз с дровами. А впереди, в оглобельках, приделанных к санкам, — мать. Она часто останавливается, повертывается ко мне и тяжело ловит ртом воздух. Лицо у нее распаренное, в капельках не то пота, не то растаявшего снега. А волосы, выбившиеся из-под полушалка, все одинаково седые от холодного куржака…
Брата Виктора я помню смутно. Он ушел в первые дни войны и в одном из боев пропал без вести.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят…
Мать долго ждала его. Даже спустя несколько лет после войны надеялась, верила. Виктор приходил к ней оборванный, худой. Молча, вставал на пороге и тянул руку, прося хлеба. Мать суетилась, шарила по избе и долго ничего не находила. Разыскав единственный кусок, никак не могла взять его: он исчезал под руками. А Виктор стоял неподвижно и молил взглядом. Мать рвалась к нему, хотела обнять, обласкать. Ноги не слушались ее. Она вскрикивала и… просыпалась. И беззвучно плакала, зарывшись лицом в подушку.
Тогда я много видел горя, но не умел еще горевать сам. А тут вдруг, спустя много лет, впервые услышал песню о Витьке с Моховой и разревелся. Мне очень было обидно из-за того, что приходилось вспоминать не брата, а себя, свое детство. Ведь Витька таким молодым ушел на войну, и в нас, маленьких, почти не осталось о нем зримых воспоминаний…
С литровой банкой поздней пахучей земляники я торопился домой. Я уже видел, как мать, сморенная дорогой и работой на солнцепеке, придет домой с сенокоса и подоит корову. Потом накормит нас, ребятишек, и присунется к столу сама. Будет неторопливо пить из щербатой кружки парное молоко, бережно вылавливая из запотевшей на леднике банки прохладные ягоды…
И вдруг впереди мелькнула над сосенками широкополая войлочная шляпа. Испуганно озираясь, я лихорадочно соображал: куда спрятаться. Войлочная шляпа могла принадлежать лишь «бабаю», которых немало завезли на стройки нашего городка в середине войны. Про них мы столько наслышались страшных небылиц, нас так напугали ими взрослые, что у меня задрожали колени.
Я вспомнил, как боится их моя мать. Недавно мы с ней тоже возвращались с ягодами домой. И так же неожиданно за поворотом глухой лесной дороги услыхали гортанные голоса. Мать аж присела от испуга, закрестилась, зашептала что-то. А потом как бросилась в кусты за обочину! Да так меня дернула, что я чуть корзину не выронил. Не поднимая головы, не шевелясь, мы сидели в кустах до тех пор, пока двое узбеков или казахов — так до сих пор и не знаю этого — не ушли далеко, пока не затихли вдали их голоса…
А сейчас я тоже хотел сигануть в густые заросли молоденького сосняка, но услыхал песню. Пел ее русский, знакомый мне голос. Я облегченно вздохнул и пошел навстречу поющему. Это был известный всем ребятам городка Пашка Голоп. Прозвали его так за то, что он бегал необычно и очень проворно — резкими удлиненными прыжками.
Он шел по лесу и пел распространенную в те годы среди уличной пацанвы песню про Колю Кучеренко. Мы сошлись на узкой тропе. Он покосился на мою банку и улыбнулся одними губами. Глаза из-под косого среза челки глядели равнодушно и холодно.
— Фартовый оголец, — хмыкнул он. — Умеешь руками шевелить. А у меня вот не рука, а… — И он привычно выругался.
Правая рука у Пашки постепенно сохла. Шли разговоры, что полоснули его по сухожилиям ниже локтя его же приятели. Он из-за этого и на войну не попал. Зато левая у него была необыкновенной силы, и владел он ею ловко. Но расправлялся всегда правой, сухой. Он цепко брал свою жертву левой, а кистью правой бил по голове, по лицу. И те, кому хоть однажды пришлось почувствовать удары мертвой руки, боялись его до смерти…
Пашка наклонился ко мне. Он не был некрасив. Чистый, гладкий. Только черная широкая челка делала его лицо приплюснутым и узколобым. Он так же холодно смотрел на меня и спрашивал:
— Ты ведь добрый? Ты не будешь злить меня? Ты угощаешь… Правда?
Он сволок с головы войлочную шляпу, ловко прижал правым локтем к боку и опрокинул в нее мою банку. Печально зашуршали, посыпались ягоды, еще сухие, сохранившие солнечное тепло.
Отбежав подальше, я начал поносить своего врага какими знал нехорошими словами. Меня всего трясло от ненависти, я орал исступленно:
— Пашка Галопа свою руку слопал!..
Так мы, мелюзга, за глаза ругали своего обидчика.
Я продирался напрямик сквозь колючие сосенки, и слезы застилали мне глаза.