Русский национализм и Российская империя - [3]
Не менее важным фактором стала и волна массовой интернационализации конца XIX — начала XX в. Количество людей, пересекавших государственные границы, путешествуя поездами и пароходами, за несколько десятилетий до 1914 г. значительно возросло, а межгосударственный обмен людьми и капиталами достиг беспрецедентного уровня. Это серьезно увеличило масштаб потенциальной проблемы с гражданами враждебных государств. На рубеже веков шовинистические лозунги, направленные против мигрантов, появились во многих странах и подстегнули введение законодательных актов, ограничивающих въезд в страну определенных этнических групп. Великобритания, Франция, Германия и США пришли к необходимости установления новых форм надзора за иммигрантами и ограничения иммиграции вообще>{6}. Эти процессы имели определенное значение, но реальный сдвиг по направлению к новому миру, где гражданство тесно связано со строгим эмиграционным контролем и национальными квотами, произошел во время Первой мировой войны, а проблема вражеских подданных стала важнейшей частью отхода от интернационалистических тенденций предвоенной эпохи. Сказанное особенно верно для континентальных империй (впоследствии вступивших в схватку на Восточном фронте), поскольку они не столь решительно стремились к превращению гражданства в четкую разделительную линию между представителями «титульного» сообщества своих подданных и чуждыми ему лицами, пока война не заставила их двигаться в этом направлении.
Российский вариант политики по отношению к вражеским подданным довольно существенно отличался от других в двух важнейших чертах. Во-первых, если во многих странах иммигранты из других государств были экономическими и социальными маргиналами, в России подданные в будущем враждебных государств занимали непропорционально значительную долю важных позиций в экономике в качестве крупных предпринимателей, инвесторов, управляющих фирмами, землевладельцев, владельцев магазинов, высокооплачиваемых служащих, инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. Таким образом, с самого начала возможные последствия и доля ущерба от кампании против вражеских подданных в России имели неизмеримо большее значение, чем в таких странах, как Великобритания, Франция или Германия. Во-вторых, в отличие от большинства других стран, в России как официальные санкции, так и общественная кампания немедленно затрагивали не только иностранных граждан, но и широкие круги уже натурализовавшихся иммигрантов и российских подданных, чья лояльность подвергалась сомнению по причинам этнической и конфессиональной принадлежности или страны происхождения. Эта ситуация спровоцировала проблемы с терминологией, поскольку определения «гражданин или подданный страны, воюющей с Россией» (enemy citizen, enemy subject) технически относились лишь к не связанным с армией гражданским лицам — обладателям паспортов вражеских государств (империй Гогенцоллернов и Габсбургов, Османской империи и, с октября 1915 г., Болгарии). Учитывая некоторые особенности российской националистической кампании, власти добавили к предыдущему еще одно определение: «российские подданные, выходцы из стран, воюющих с Россией». Более того, на практике армия и правительство нередко не стеснялись расширительно толковать действующее законодательство и распространять его действие на все новые и новые «подозрительные» и «ненадежные» категории населения. Обозначая все эти довольно разные категории единым английским термином «enemy alien», не имеющим точного русского эквивалента[5], эта книга рассматривает всех индивидов и все группы лиц в Российской империи, подпадавшие под ограничения, первоначально введенные исключительно для подданных враждебных государств>{7}.[6]
Распространение националистической кампании не только на вражеских подданных, но и более широкие враждебные категории строилось на давних российских представлениях о внутренних врагах и «инородческом» населении. Причины складывания подобных представлений может прояснить имеющий целый ряд значений термин «инородец». Юридически это была сословная категория, относящаяся к иностранцам, евреям, кавказским горцам и кочевым народам. В повседневном употреблении в начале XX в. данный термин приобрел гораздо более широкий смысл и стал обозначать людей неправославного вероисповедания, туземные народы и вообще любую категорию населения, считавшуюся нерусской. Эти тенденции в общепринятом использовании данного термина совпадают с четко выраженной направленностью кампании военного времени против вражеских подданных, постепенно распространявшейся на все более широкие категории населения. Не концентрируя внимание на применении ограничений к вражеским подданным в узком смысле, данное исследование сосредоточено на широкой мобилизации российского общества и государства против ряда чужеродных элементов. Особое внимание уделяется таким мерам, как высылка, «зачистка» определенных территорий, конфискация земельной собственности и ликвидация частных компаний и предприятий. Данная работа в большей степени исследует административные процедуры, чем конкретные национальные меньшинства, и стремится доказать, что сам процесс практического применения всевозможных ограничений и репрессий фактически укреплял национальные различия, делая их все значительнее.
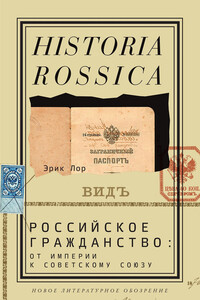
В монографии прослеживается история института гражданства в России с Великих реформ 1860-х до начала 1930-х годов. Автор рассматривает российские законы и практики в международном контексте и приходит к заключению, что до начала Первой мировой войны история российского гражданства во многом сопоставима с историей гражданства в западных странах. В 1860-х годах правительство старалось увеличить приток иностранцев в страну, что рассматривалось как часть стратегии модернизации. Одновременно царский режим использовал политику гражданства как инструмент влияния на этнический состав населения.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.
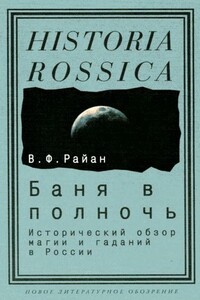
В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.

Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
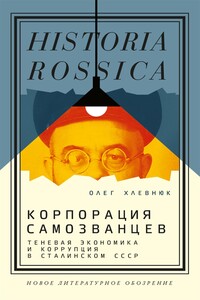
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.