Русские толкования - [14]
Мифологема божественного слова. Сократ у Платона (Ион, 534cde) о поэтах:
--ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог (ó θεòς α`ντóς `εστιν ó λ`εγων) и через них подает нам свой голос, — мы не должны сомневаться, что не человеческие эти прекрасные творения и не людям они принадлежат, они божественны и принадлежат богам, поэты же — не что иное как толкователи воли богов, одержимые каждый тем богом, который им владеет.--[10]
Сюда же «язык богов», но и Бог-Слово в прологе Евангелия Иоанна (к нему см. хотя бы К. Эванс, Слово и слава), `Εν àρχŋ ŋν ó λóγος καì ó λóγος ŋν πρòς τòν θεóν, καì θεòς ŋν ó λóγος. «Изначально — до сотворения мира — был Тот, кто зовется Словом. Он был с Богом, и Он был Бог.»[11] Это мифологическое отчуждение слова и языка свидетельствует об исконной чужести слова, об изначальной другости говорящего.
«Христианское толкование» переосмыслило в свою пользу и Вергилия, вот об этом Николай Бахтин на собрании Зеленой лампы в 1927, тема «Есть ли цель у поэзии?»:
Кто создает живое, тот должен сознавать, что рано или поздно он будет не в силах связать его своим заданием, потеряет власть над ним. Так же точно и поэт. Возьмем пресловутую 4-ю эклогу Виргилия, наилучшие слова, оставшиеся такими, какими они возникли в устах поэта. Виргилий твердо знал, чего хочет, и умел найти слова, которые могли бы его выразить с должной чистотой и ясностью. Но хотел ли он, знал ли, с какими силами вступит в связь его создание? Не содрогнулся ли бы он от ужаса, если бы услышал пресловутую речь Лактанция на Никейском соборе?
(по стенографическому отчету во Встречах Ю. Терапиано, с. 76 сл.); христианизация Четвертой эклоги здесь пример общей с братом Михаилом идеи, что художественное произведение в своей жизни свободно от автора. А вот о том же переосмыслении, но как его соучастник, — Георгий Федотов к двухтысячелетию Вергилия (Лицо России, с. 311):
Но несомненно: если бы за щитом и латами классицизма не билось мистическое сердце, чуткое к голосам и предчувствиям, разве мог бы Виргилий стать Сивиллой, пророчествующей о Христе? — Не произвольно и не искусственно патриотические и средневековые теологи связали пророчество Виргилия с Вифлеемским Младенцем. Виргилий выразил всю тоску древнего мира об Искупителе, все смутные ожидания, сгустившиеся в век Августа в напряженный мистический зов. Уставно-обрядовое благочестие Энея, в конце концов, лишь рабочая трансформация белого угля четвертой эклоги.
«Ветхозаветные пророчества» об Иисусе Христе и его «прообразы», например Иосиф у Паскаля — Мысли, 570/768. Только если верно, что «душа христианка», тогда interpretatio christiana честный прием, а задача герменевтики — помогать христианам в соглашении всех несознательных с их собственной душой. Конечно, anima naturaliter religiosa, но не naturaliter christiana; сказав это второе, Тертуллиан (Апологетик, 17) выдал ересь преуспевшей секты за естественную религию человечества. «Самое страшное в христианстве — то, что это религия победителей.» — С. Лёзов, Очерки современного православного либерализма (Попытка, с. 203).
Мандельштам о Данте (Разговор о Данте, 10):
Секрет его емкости в том, что ни единого словечка он не привносит от себя. Им движет всё что угодно, только не выдумка, только не изобретательство. Дант и фантазия — да ведь это несовместимо!.. — Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик… Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминованный подлинник, одолженный ему из библиотеки приора.
К этому месту есть пояснение Надежды Мандельштам:
Мандельштам утверждает, что «ни одного словечка он (Данте) не привнесет от себя… он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик…» Литературовед этого бы сказать не мог. Это мог сказать только поэт, на собственном опыте познавший категоричность внутреннего голоса. Из приведенной цитаты следует, что в поэтическом труде немыслим никакой произвол, ни выдумка, ни фантазия. Все эти понятия Мандельштам относил к отрицательному ряду-- Фантазия и вымысел дают фиктивный продукт — беллетристику, литературу, но не поэзию. — Есть эпохи, когда возможно только литературное производство, фикция, потому что внутренний голос заглушен и «душа убывает».
— Моцарт и Сальери (гл. Две стороны одного процесса). — Но ведь «внутренний голос заглушен» уже у Вергилия, вожатого Данте; нелитературная поэзия это, строго говоря, недостижимый для частного автора идеал дописьменной словесности, идеал фольклора.
На анекдот про девятых людей
В анекдоте АТ 1287 = Тм J2031 десятеро не могут досчитаться одного, они девяты люди, потому что каждый «себя-то в счет и не кладет», и только прохожий, посторонний сосчитывает их всех. Чтобы девяты люди стали десятерыми, нужен одиннадцатый; здесь представлены все три типа фольклорных чисел, а именно неполное число, круглое, т. е. полное, и сверхполное. Этот анекдот про глупцов вчуже смешон, но ведь все мы такие дураки, это и притча о человечестве. Каждый сам для себя —
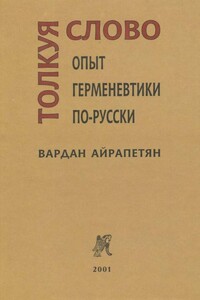
Задача этой книги — показать, что русская герменевтика, которую для автора образуют «металингвистика» Михаила Бахтина и «транс-семантика» Владимира Топорова, возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Вся книга состоит из примечаний разных порядков к пяти ответам на вопрос, что значит слово сказал одной сказки. Сквозная тема книги — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное; слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет.
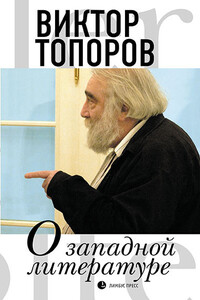
Виктор Топоров (1946–2013) был одним из самых выдающихся критиков и переводчиков своего времени. В настоящем издании собраны его статьи, посвященные литературе Западной Европы и США. Готфрид Бенн, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Генри Миллер, Грэм Грин, Макс Фриш, Сильвия Платт, Том Вулф и многие, многие другие – эту книгу можно рассматривать как историю западной литературы XX века. Историю, в которой глубина взгляда и широта эрудиции органично сочетаются с неподражаемым остроумием автора.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
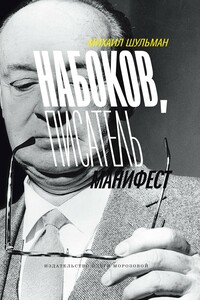
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.