Русские толкования - [13]
Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое. Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. — Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это—мое дело.--
Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение] себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует.
Толстой забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта и гадкая и глупая.
Да, Толстой хочет быть правым, а Я хочу, напротив, чтобы меня осуждали, а Я бы перед собой знал, ч[то] Я прав.
Вспоминается еще Мандельштам: О, как противен мне какой-то соименник — | то был не я, то был другой. (Нет, никогда ничей я не был современник--). Но не подходит сюда хитроумное разделение себя, которое проделал своим Вид. невид. Яков Друскин.
К бахтинским «я для себя» и «я для другого»: это я сам, сам по себе, и я как другой, один из многих; я единственный и я как все; это моя самость и моя другость. Ср. различение «первичного автора» и «вторичного» в поздних записях — ЭСТ>1, с. 353 сл. Вот невидяще-ненавидящий отзыв Натальи Бонецкой, Бахтин метафиз.: «Бахтин релятивизирует „я“, образ Божий в человеке, с помощью неологизмов — монстров „я-для-себя“ и „я-для-другого“» (с. 111, в скобках).
Борхес и я кончается так: «Не знаю, который из двоих пишет эту страницу.» — «Я» Борхеса, посмотревшись в зеркало самопознания, дало «другому» и эту страницу.
Слово и пословица. К слову как «услышанному»: «Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук.» — В. Яновский, Поля Елисейские, 7. И Топоров, Святость 1 (из прим. 46 на с. 207 сл.):
Вообще Слово — это то, что может и должно быть услышано, предназначено к у слышанию, т. е. то, что предполагает не только Я, субъект речи, автора Слова, но другого(Ты) и, как правило, завершенность коммуникации в слове, иначе говоря диалог, который имел место, — в отличие от сказать (говорить), не требующего непременного участия воспринимающего сказанное друг[ого] и, следовательно, диалога (ср. глас вопиющего в пустыне, повисающий в одиночестве невоспринятости) и — в случае сказать — апеллирующего к феноменальному (зрение — показ: с-казать, но ис-чезать).
— Да, но «Я», которое есть субъект речи, автор Слова, подобает одному Богу, можно сказать вслед за цадиком Аароном из Карлина (по Буберу), а для меня самого говорящий — другой. Идею чужести слова обновляет слово по-словица, от формулы следования и цитирования по слове/слову, обновляемой в по пословице. «Не всякое слово пословица» (ПРН, с. 972), но это позднéе, когда чужесть в слове ослабла, а первоначально всякое, ср. древнерусское и диалектное пословица «слово (языка)»; первоначально слово есть чужое-общее высказывание (общий: польское obcy «чужой», но ср. своеобщий), по котором/которому я делаю и говорю. Пословица — слово мирового человека, кому я пословен, послушен. Близко слову-пословице обозначение священного писания индуистов śruti- с тем же индоевропейским корнем «слышать, слушать», впрочем см. В. Семенцов, Интерпрет. брахман., 1.8. Сюда же санскр. mantra-, о котором см. Инд. мантру Яна Гонды, и церковное паремия «чтение из Священного писания» при пареми`я фольклористики (παροιμíα). О пословице ср. А. Григорян, Посл, посл., прим. И на с. 226.
Гомеровы призывы к Музе и поэт как «толковник богов» у Платона, οí δ`ε ποιŋταì ονδ`εν áλλ' ŋ˝ `ερμŋνŋˇς ειοì των θεων (Ион, 534е), и Горация, sacer interpresque deorum \ — Orpheus (Искусство поэзии, 391 сл.), свидетельствуют об исконной чужести слова, понимание которой вернул нам Бахтин. А Вергилий, начавший Энеиду от себя, стал образцом для европейской поэтической отсебятины — все эти «пою» (их упоминает С. Аверинцев, Поэтика ранневиз., гл. Слово и книга) или «певец» как самоназвание того, кто пишет стихи. К порицаемому в Искусстве поэзии зачину «киклического писаки» «fortunam Priami cantabo et nobile bellum» (136 сл.) см. 4. Бринк, Гор. поэз. 2, с. 214; сходство с Arma virumque сапо-- Энеиды здесь не отмечено. К чужести слова ср. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня.» из Второй книги царств (23.2) или «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.» из Матфея (10.20). О говорении того, что «хочет Бог, чтобы я говорил», есть запись Слияние своей жизни-- в Уединенном Розанова. Но вот как криво истолкован праведный зачин Илиады у Григория Паламы: «Гомер тоже призывает богиню воспеть через него человекоубийственный гнев Ахилла, давая этому демону пользоваться собой как орудием и возводя к той же богине источник своей мудрости и красноречия.»[9]— Триады в защиту священно-безмолвствующих, 1.1.15; это победное, торжествующее выставление языческого божества бесом называется interpretatio christiana.
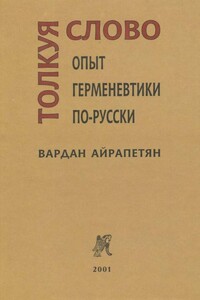
Задача этой книги — показать, что русская герменевтика, которую для автора образуют «металингвистика» Михаила Бахтина и «транс-семантика» Владимира Топорова, возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Вся книга состоит из примечаний разных порядков к пяти ответам на вопрос, что значит слово сказал одной сказки. Сквозная тема книги — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное; слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет.
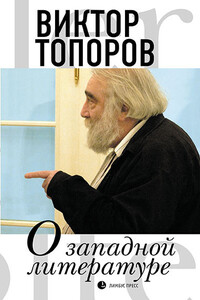
Виктор Топоров (1946–2013) был одним из самых выдающихся критиков и переводчиков своего времени. В настоящем издании собраны его статьи, посвященные литературе Западной Европы и США. Готфрид Бенн, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Генри Миллер, Грэм Грин, Макс Фриш, Сильвия Платт, Том Вулф и многие, многие другие – эту книгу можно рассматривать как историю западной литературы XX века. Историю, в которой глубина взгляда и широта эрудиции органично сочетаются с неподражаемым остроумием автора.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
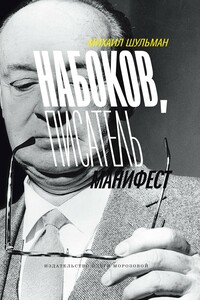
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.