Русские беседы: лица и ситуации - [17]
И в том, и в другом случае «нечто» («нация», «страна», «государство») становится объектом созерцания – созерцания во времени, которое здесь настойчиво переводится в пространство, развертываясь как скрепленная с этим пространством генеалогия, лента истории, свиток повествования, длительность, представленная рядом стоящих на полке томов. За этим созерцанием могут стоять разные интенции – либо сохранения, либо действия, но сама практика созерцания однотипна, как и практика вовлечения в это созерцание, в наслаждение им, приносящее радость сопричастности с другим, созерцающим то же самое. «Наш» – это тот, кто созерцает тот же объект, кто эстетически переживает один и тот же опыт, с кем я, следовательно, могу его разделить – разделить как понимание, возникающее там, где рациональное согласие неуместно, как «согласие в эмоции», т. е. «единочувствие»[73].
Во-вторых, возможна и апелляция к «европейскому», «западному» опыту – но через критику «идеи прогресса», критику «современности», лишаемой положительных коннотаций. В этом случае утверждается образ «двух Европ»: подлинной, исторической, с которой и ассоциирует себя русский консерватизм, и современной, отказавшейся от собственных начал, «изменившей себе». Этот взгляд может транслироваться и вовне: скажем, французам, посещавшим Петербург Николаевской эпохи, придворные балы и приемы напоминают прекрасную эпоху до 1789 г.; показательно и то, что презрительные описания новых придворных нравов, оставленные русскими посетителями Тюильри в 1830–1840-х гг., совпадают с отзывом французской фельетонистки Дельфины де Жирарден, так характеризовавшей министров на королевском балу: «Мало того, что эти господа уродливы от природы, они еще и одеты самым безвкусным образом; они неопрятны и не причесаны; таков их мундир, и другого они не знают. <…> Это возмутительно: они ведут себя, как на заседаниях палаты»[74]. Выстраивается единство с «Европой», с «Западом», терпящим, как кажется, крушение или, самое меньшее, попавшим в тяжелое положение, из которого, однако, есть выход; соответственно, положение России мыслится как особое: она благополучным образом избежала «западных бед», хотя они могут постигнуть и ее в любой момент, как уже постигли Европу. Этот вариант консервативной аргументации весьма близок романтическому национализму славянофилов[75], который активно вбирает критику «Запада», исходящую от западных авторов (как консервативного, так, например, и социалистического толка). Общеизвестна зависимость славянофильской мысли от Шеллинга, чьи суждения о современном положении Европы оцениваются ими как неоспоримая истина, тогда как его надежды на внутреннее обновление, перерождение Европы признаются безосновательными, так как она не располагает достаточными для этого силами, «новыми началами»[76]. Предсказуемым образом эти «новые начала» усматриваются в России – что открывает следующий, важнейший аспект интерпретации «Европы» через «Россию», которой предстоит осуществить идеальное сопряжение всеобщего (универсального) и специфического.
Собственно, национализмы XIX в. находятся в теснейшей связи с историзацией как способом заменить отсутствующую (разрушающуюся) традицию – в тот момент, когда она перемещается в поле зрения, – ведь пока традиция существует, она не проблематизируется, не становится предметом мысли; ее практикуют, а не выбирают, выбору же подлежат конкретные действия или варианты их обоснования. Как писала Ханна Арендт, нить исторической преемственности стала ближайшей заменой традиции, она помогла редуцировать множество разнородных ценностей и противоречивых мыслей, так или иначе влиявших на происходящее, к однонаправленному и «диалектически согласованному развитию», которое было сконструировано для того, чтобы отвергнуть «не столько традицию, сколько авторитет всех традиций»[77]. Все существующее, и даже исключающее друг друга, получает благодаря такой историзации свой смысл и тем самым оправдание, но только в рамках определенного места и времени. Иными словами, «смыслом вообще» не обладает ничто, за одним исключением, причем в отличие от аристотелевского бога, чистой формы вне времени, исключение это – «Абсолютный дух» или «история», которой надлежит наступить после завершения «предыстории», наделяет смыслом что бы то ни было лишь отменяя его собственный смысл, обнаруживающий свой иллюзорный характер. Впрочем, в этой конструкции любые иллюзии могут быть объяснены – здесь все получает обоснование, правда, с той оговоркой, что ложное оказывается столь же обоснованным, как истинное.
Стать нацией в этой системе координат значит отстоять свое место в истории, а право на субъектность, право быть действующим лицом, а не объектом воздействия, оказывается сопряжением универсального и национального. Национальное здесь – это уникальное содержание, которое имеет универсальное значение, сама по себе «особость» не имеет значения, это чистая фактичность: смыслом обладает то особенное, что становится всеобщим. Отсюда важная черта отношения к «другим», характерного для славянофилов 1840–50-х гг.: особое (разумеется, главенствующее, основное) место в истории при всей своей исключительности не выступает в качестве исключающего, не требует отрицания других, создавая достаточно широкую рамку для помещения их, сосуществующих, в эту иерархичную схему.

Современный читатель и сейчас может расслышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители, публицисты, литературные критики о судьбах России и ее историческом пути, о сложном переплетении культурных, социальных, политических и религиозных аспектов, которые сформировали невероятно насыщенный и противоречивый облик страны. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка сдвинуть ключевых персонажей интеллектуальной жизни России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и создать наиболее точную и обьемную картину эпохи.
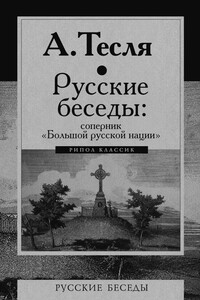
Русский XIX век значим для нас сегодняшних по меньшей мере тем, что именно в это время – в спорах и беседах, во взаимном понимании или непонимании – выработался тот общественный язык и та система образов и представлений, которыми мы, вольно или невольно, к счастью или во вред себе, продолжаем пользоваться по сей день. Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России – то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое. XIX век справедливо называют веком «национализмов» – и Российская империя является частью этого общеевропейского процесса.

Тема национализма была и остается одной из самых острых, сложных, противоречивых и двусмысленных в последние два столетия европейской истории. Вокруг нее не утихают споры, она то и дело становится причиной кровопролитных конфликтов и более, чем какая-либо иная, сопровождается искаженными интерпретациями идей, упрощениями и отжившими идеологемами – прежде всего потому, что оказывается неотделимой от вопросов власти и политики. Для того, чтобы сохранять ясность сознания и трезвый взгляд на этот вопрос, необходимо «не плакать, не смеяться, но понимать» – к чему и стремится ведущий историк русской общественной мысли Андрей Тесля в своем курсе лекций по интеллектуальной истории русского национализма.

В книге представлена попытка историка Андрея Тесли расчистить историю русского национализма ХХ века от пропагандистского хлама. Русская нация формировалась в необычных условиях, когда те, кто мог послужить ее ядром, уже являлись имперским ядром России. Дебаты о нации в интеллектуальном мире Империи – сквозной сюжет очерков молодого исследователя, постоянного автора Gefter.ru. Русская нация в классическом смысле слова не сложилась. Но многообразие проектов национального движения, их борьба и противодействие им со стороны Империи доныне задают классичность русских дебатов.
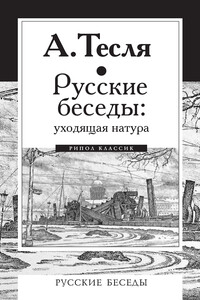
Русский XIX век значим для нас сегодняшних по меньшей мере тем, что именно в это время – в спорах и беседах, во взаимном понимании или непонимании – выработались тот общественный язык и та система образов и представлений, которыми мы, вольно или невольно, к счастью или во вред себе, продолжаем пользоваться по сей день. Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России, то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое. Во второй книге серии основное внимание уделяется таким фигурам, как Михаил Бакунин, Иван Гончаров, Дмитрий Писарев, Михаил Драгоманов, Владимир Соловьев, Василий Розанов.

Предупрежден – значит вооружен. Практическое пособие по выживанию в Англии для тех, кто приехал сюда учиться, работать или выходить замуж. Реальные истории русских и русскоязычных эмигрантов, живущих и выживающих сегодня в самом роскошном городе мира. Разбитые надежды и воплощенные мечты, развеянные по ветру иллюзии и советы бывалых. Книга, которая поддержит тех, кто встал на нелегкий путь освоения чужой страны, или охладит желание тех, кто время от времени размышляет о возможной эмиграции.

1990 год. Из газеты: необходимо «…представить на всенародное обсуждение не отдельные элементы и детали, а весь проект нового общества в целом, своего рода конечную модель преобразований. Должна же быть одна, объединяющая всех идея, осознанная всеми цель, общенациональная программа». – Эти темы обсуждает автор в своем философском трактате «Куда идти Цивилизации».

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?
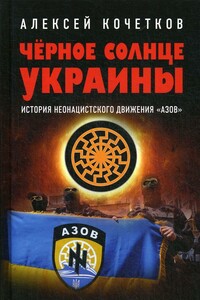
Украинский национализм имеет достаточно продолжительную историю, начавшуюся задолго до распада СССР и, тем более, задолго до Евромайдана. Однако именно после националистического переворота в Киеве, когда крайне правые украинские националисты пришли к власти и развязали войну против собственного народа, фашистская сущность этих сил проявилась во всей полноте. Нашим современникам, уже подзабывшим историю украинских пособников гитлеровской Германии, сжигавших Хатынь и заваливших трупами женщин и детей многочисленные «бабьи яры», напомнили о ней добровольческие батальоны украинских фашистов.
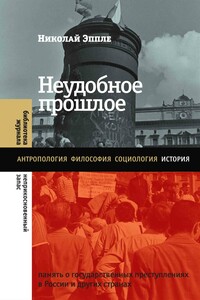
Память о преступлениях, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, вовсе не случайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, — невероятно трудно и психологически, и политически, и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров такого добровольного переосмысления много, а Россия — единственная в своем роде страна, которая никак не может справиться со своим прошлым.

В центре эстонского курортного города Пярну на гранитном постаменте установлен бронзовый барельеф с изображением солдата в форме эстонского легиона СС с автоматом, ствол которого направлен на восток. На постаменте надпись: «Всем эстонским воинам, павшим во 2-й Освободительной войне за Родину и свободную Европу в 1940–1945 годах». Это памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.