Русская Венера - [99]
Дня через три побывали в Набережных Челнах, действительно просторном и современном городе, то есть Построенном из бетона, стекла, панелей, блоков, кирпича. Широкие улицы, обилие газонов и цветников, обилие многоэтажных жилищ, дружно отражающих промытыми перед зимой окнами невеселое октябрьское солнце.
— Здорово, да?! — все приглашал Николай разделить его восторг новыми Челнами и звал еще посмотреть само строительство, а я все неопределенно гмыкал, молча ежился от камского сквозняка, не решаясь остудить гостеприимный пыл скучным вопросом: «А что здорово-то?» — но и вовсе не откликнуться не мог:
— Примерно как в Братске. Или — в Тольятти. Или — в Усть-Илимске.
— Значит, не нравится. — Николай еще раз огляделся, вновь удовлетворился современным очертанием Челнов. — А зря. Законный город. — В устах прокурора эпитет этот звучал убедительно, и я согласился:
— Город как город.
— Залезай в машину. На экскурсии летом надо приезжать…
— А я, Коля, в Мензелинск приехал. В старый, маленький, тесный городишко…
— Ясно, ясно. Но который тебе дороже всяких Челнов. Или как вы там пишете?
— Может и так. А ты лучше скажи: что за ягода росла по огородам? У плетней, в лебеде, то прозрачно-медовая, то черная, как смородина, — слаще не встречал и нигде, кроме мензелинских огородов, не видел.
— Броняшка. Пропала куда-то. Вроде для того только и появилась, чтоб жизнь подсластить. И пропала.
— Да, правильно, броняшка. Сколько мучился, никак не мог вспомнить.
И мы охотно вернулись в послевоенный Мензелинск, к балаганам в осенних огородах, к сабантуям в Буранском лесу, к Пугачевскому валу с возбуждающими мальчишескую душу находками: ржавый обломок сабли, ядро, ржавая же рукоять пистолета…
Вот так и рассеялось сгустившееся было желание поговорить об унынии, исходящем от наших городов, построенных с младенческой, полорукой старательностью из одинаковых кубиков и параллелепипедов. Хотя вряд ли бы у меня хватило жара (Николай-то приемлет новый город всей душой) ломиться в открытую дверь. Лет десять уже, а то и более слышатся укоряющие и обличающие голоса: остановись, сгинь, архитектурная безликость, ты уродуешь не только землю, но и душу человека, живущего на ней, — однако, сколь ни справедлив гнев и сколь ни гласен, безликость затопляет все новые и новые пространства, и, однажды перелетев из Братска в Набережные Челны и найдя, что проспект Мусы Джалиля продолжает какой-нибудь проспект Энергетиков, только расхохочешься этак растерянно-нервически: «Ну молодцы! Ну молодцы! Их гвоздят, а им все хоть бы хны!» — подразумевая под «молодцами» работников мастерских энского гипрогора. Теперешние города возникают, так сказать, не под дланью новоявленных казаковых и федоров коней, а под номером той или иной мастерской: не с кого спрашивать и некого ругать. Предположим, на какой-то миг стал бы я обладателем дьяконского баса, чтобы, опечалившись унылой застройкой Челнов, мог выйти на камскую кручу и гневно пророкотать: «Предаю анафеме за немощь творческую коллектив архитектурной мастерской…» — но тут бы я наверняка споткнулся и умолк: нелепо браниться вообще, не имея под прицелом грешного и упрямо внимающего «раба божия».
Впрочем, безвестные архитекторы могут осадить меня встречной анафемой за экономическое невежество: чем проще, незамысловатей архитектурный замысел, тем быстрее и дешевле воплотить его в дом, в квартал, в город, тем больше будет новоселов, тем больше радости и веселья — этой хоровой анафемой меня просто-таки снесет, сдует с воображаемой кручи, только и успею выкрикнуть в оправдание: «Я тоже за простоту и незамысловатость, лишь бы выражали они радостную душу соотечественника! Не кубическая же она у него, не параллелепипедная!»
Говорят, в Грузии, Узбекистане, в Прибалтике архитекторы настойчиво придают облику новых городов черты национальных характеров, как он веками отражался в камне и дереве, то есть социалистическому содержанию нашей жизни (разумеется, в него входят и понятия дешевизны, технологической простоты строительства) сообщают национальную форму. А вот на российских просторах национальный характер архитектуры почему-то не всегда проглядывает сквозь геометрию.
А славно бы однажды подплыть или подъехать к какому-нибудь современному Великому Устюгу или Суздалю, и открылись бы на высоком берегу или на холмах средь чиста поля некие белокаменные строения: библиотеки ли, театры ли, музеи, перенявшие от прежних храмов вознесенность и волшебную, праздничную отрешенность от житейщины, чтобы путник или гость еще издали поразился духовной щедрости города и заранее готовился бы, говоря старомодно, вкусить от щедрот сих.
И, погостив день-другой, приглядевшись к жителям, наверняка бы обнаружил, что у города свой норов, норов этот, возможно, когда-нибудь отличит поговорка или присказка, на манер тех, какие мы еще нет-нет да и вспоминаем: «Кострома — веселая сторона»; «Город Архангельский, а народ в нем диавольский»; «Тверские вприглядку с сахаром чай пьют»; «Кадуй — бока надуй»; «Во Владимире и лапшу топором крошат…»
Покамест мы ехали полем — черная, комкастая зябь заняла и придорожные полосы, плотно сжав асфальт, вроде бы он временно и незаконно лег здесь на пашню. Нет-нет да и подталкивало, как выбоина на асфальте, дикое соображение: дорога без обочин все равно что речка без берегов… Остановились у беленого бетонного столба — за ним (простительна некоторая торжественность) простиралась мензелинская земля. Ветер над ней и низкое холодное солнце; желто-черные просторы полей, занесенных, казалось, стылым, сумеречным посвистом, вырывавшимся из березовых колков и перелесков. Товарищи мои отошли за машину, прячась от ветра и, должно быть, давая мне возможность почувствовать встречу, пристально вглядеться в эти полузабытые поля.
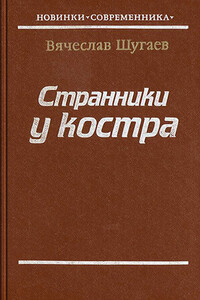
Герои этой книги часто уезжают из дома; одни недалеко, как в повести «Мальчики из Майска», другие за тридевять земель (повесть «Странники у костра»), чтобы оглянуться на свои дни — так ли живут? — чтобы убедиться, что и в дальних краях русские люди деятельны, трудятся азартно, живут с верой в завтрашний день. А Иван Митюшкин из киноповести «Дмитровская суббота» вообще исколесил всю страну, прежде чем нашел свою судьбу, свою горькую и прекрасную любовь. И сам автор отправляется в поля своего детства и отрочества (рассказ «Очертания родных холмов»), стремясь понять ностальгическую горечь и неизбежность перемен на его родине, ощутить связь времен, связь сердец на родной земле и горячую надежду, что дети наши тоже вырастут тружениками и патриотами.

Дед Пыхто — сказка не только для маленьких, но и для взрослых. История первого в мире добровольного зоопарка, козни коварного деда Пыхто, наказывающего ребят щекоткой, взаимоотношения маленьких и больших, мам, пап и их детей — вот о чем эта первая детская книжка Вячеслава Шугаева.
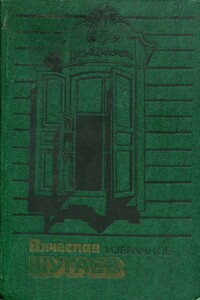
В книгу лауреата Ленинского комсомола Вячеслава Шугаева «Избранное» входят произведения разных лет. «Учителя и сверстники» и «Из юных дней» знакомят читателя с первыми литературными шагами автора и его товарищей: А. Вампилова, В. Распутина, Ю. Скопа. Повести и рассказы посвящены нравственным проблемам. В «Избранное» вошли «Сказки для Алены», поучительные также и для взрослых, и цикл очерков «Русские дороги».

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Великий мастер японской каллиграфии переживает инсульт, после которого лишается не только речи, но и волшебной силы своего искусства. Его ученик, разбирая личные вещи сэнсэя, находит спрятанное сокровище — древнюю Тушечницу Дайдзэн, давным-давно исчезнувшую из Японии, однако наделяющую своих хозяев великой силой. Силой слова. Эти события открывают дверь в тайны, которые лучше оберегать вечно. Роман современного американо-японского писателя Тодда Симоды и художника Линды Симода «Четвертое сокровище» — впервые на русском языке.

Можно ли стать богом? Алан – успешный сценарист популярных реалити-шоу. С просьбой написать шоу с их участием к нему обращаются неожиданные заказчики – российские олигархи. Зачем им это? И что за таинственный, волшебный город, известный только спецслужбам, ищут в Поволжье войска Новороссии, объявившей войну России? Действительно ли в этом месте уже много десятилетий ведутся секретные эксперименты, обещающие бессмертие? И почему все, что пишет Алан, сбывается? Пласты масштабной картины недалекого будущего связывает судьба одной женщины, решившей, что у нее нет судьбы и что она – хозяйка своего мира.

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).

Судьба иногда готовит человеку странные испытания: ребенок, чей отец отбывает срок на зоне, носит фамилию Блаженный. 1986 год — после Средней Азии его отправляют в Афганистан. И судьба святого приобретает новые прочтения в жизни обыкновенного русского паренька. Дар прозрения дается только взамен грядущих больших потерь. Угадаешь ли ты в сослуживце заклятого врага, пока вы оба боретесь за жизнь и стоите по одну сторону фронта? Способна ли любовь женщины вылечить раны, нанесенные войной? Счастливые финалы возможны и в наше время. Такой пронзительной истории о любви и смерти еще не знала русская проза!

В романе «Крепость» известного отечественного писателя и философа, Владимира Кантора жизнь изображается в ее трагедийной реальности. Поэтому любой поступок человека здесь поверяется высшей ответственностью — ответственностью судьбы. «Коротенький обрывок рода - два-три звена», как писал Блок, позволяет понять движение времени. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. ... С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека - в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях.