Русская Венера - [104]
Говорят, незадолго до его смерти я от кого-то услышал загадку про календарь: помер, оставил номер, — мне было три года, и я замучил ею всех домашних, восторженно проверяя: так же они догадливы, как и я? На меня шикали, замахивались: «Не каркай» — тогда я бежал к отцовской постели и неутомимо звенел: «Ну, угадай! Только ты не угадал! Помер, оставил номер!» — а отец уже не мог говорить.
Не помню этого дня и отца совершенно не помню. Порою, правда, брезжит видение: я сижу у отца на коленях, мы смотрим в окно на улицу, там скачут всадники с красными флагами — какой-то праздник, — за ними бегут мальчишки в новых рубашках… Пожалуй, видение это все же из какой-то чужой, книжной жизни, слишком оно отстранено от меня, лишено личных, что ли, красок — некий мальчик на коленях некого мужчины…
Знаю, он был высок, любил удить рыбу, любил граммофонную песенку «У самовара я и моя Маша», у него была доха из оленьего меха и рубашка с узким воротником, в круглых концах которого блестели запонки, — в этой рубашке отец существует на единственной фотографии, сделанной вскоре после свадьбы. И он и мать удерживают на лицах старательную парадность, какую-то напряженную безликость. Впрочем, глядя на взбугрившиеся надбровья, можно предположить, что отец был упрямым человеком, а глядя на большие, сильные губы — что у него неровный, подверженный минуте норов. Но из моих, как когда-то говаривали, физиогномических догадок не выведешь живого представления об отцовском характере, о его причудах и странностях.
Помню старого товарища отца — я прозвал его дядей Мимо. Он всегда приходил с конфетами или пряниками в кармане пиджака и всегда подставлял мне карман: «Ну-ка, ищи глубже». Однажды я попал рукой за отпоровшуюся подкладку и, нащупав конфеты, никак не мог их достать. Сколько ни совал руку — все мимо и мимо. Вот этот отцов товарищ сказал как-то, привычно хохотнув на мое «дядя Мимо пришел» (прозвище его очень смешило»): «Максим Романыч, царство ему небесное, много чего мимо пропустил». Наверное, рассуждал я впоследствии, отец мог добиться большего, чем должность провинциального счетовода, наверное, сознавал возможность этого большего, но почему-то не стремился к нему или не мог пересилить каких-то обстоятельств, наверное, из-за неосуществленности испортился характер, стал рабом захолустья, этаким мрачным уездным рыболовом, преферансистом, любителем горькой. Дядя Мимо охотно бы перекроил отцову судьбу на своем поминально-товарищеском суду, но и дяди Мимо давно нет.
Занятые жизнью, мать и брат не рассказывали от отце, а я не расспрашивал. Не помнить и не иметь отца — почти непременное и как бы естественное условие детства моего поколения. Обод судьбы, так сказать, мы покатили по травянистым улочкам, уличное товарищество вытравляло из нас трусов, воображал, ябед, то есть мы воспитывали сами себя, не мучаясь безотцовщиной (чтобы мучиться, надо сравнить жизнь с отцом и без него), не ощущая сиротства (есть мать, она всегда на работе, есть товарищи, они всегда рядом — жизнь устроена ясно и просто: «Айда на речку, у мельницы язь пошел»), не горюя из-за нехваток (мать одна работает, денег в обрез — это мы знали тверже, чем дважды два), не завидуя более сытым и обутым. Ценились лихость, ловкость, смелость: вот бы научиться, как Комарик, уличный товарищ, по деревьям лазить.
В отрочестве и юности, когда, казалось бы, безотцовщина должна уязвлять взрослее и больнее, она превратилась в некую анкетную данность вроде года рождения, — это отстранение от живой боли произошло долею из привычки писать в соответствующей графе: «Убит, умер», а долею из привычки обходиться без мужского присмотра, из раннего сознания, что мы сами с усами, сами себе отцы. И мы старательно защищали свою, так сказать, сиротскую независимость, если вдруг возникала опасность новой мужской власти.
У меня ненадолго — на одну зиму — появился отчим, неприметный мужчина в синем диагоналевом кителе, в пальто из шинельного сукна, подбитом ватой, в ботах «прощай, молодость». Ходил медленно, пришаркивающе — казалось, боязливо; говорил тихо, мало — казалось, осторожничает, чего-то недоговаривает; смеялся в белую большую ладонь — казалось, не смеется, прикашливает, потому и загораживается. Только нос его имел смелость быть определенным, непрячущимся — большой, сизый, пористый. Отчим скорее всего был мягким и добрым человеком — помню, как он неловко и виновато сутулился за столом, смущенно взглядывая на меня и погмыкивая, когда мы оставались одни. Пытался разговорить меня, взять этакую доверительно-семейную ноту, но натыкался на упорное и угрюмое молчание, на уставившиеся в клеенку глаза — я не хотел с ним общаться, не хотел его знать, не хотел даже замечать его появление в своей жизни. Он спрашивал, что я читаю, я молча показывал обложку, он совал трешницу на кино, я уворачивался от дающей руки, он звал в баню, я бурчал, что схожу с ребятами, — не нужен мне был отчим, не мог я пересилить чуждости к нему и отчаянного удивления: ну чего он ко мне пристал?!
Он был на войне артиллеристом, по его словам работал на «катюше» и, когда выпивал, умещал свои фронтовые воспоминания в детски восторженный возглас: «А мы ему как дадим! Как дадим!» — с внезапной, мучительной слезой тянулся ко мне, желая, видимо, приласкать от полноты воспоминаний. Я, конечно, отодвигался, каменел, а он, промокая слезу согнутым указательным пальцем, вздыхал: «Эх ты! Эх ты!» Выпивал он часто, порой до тихого, беспомощного беспамятства. В одно хрусткое мартовское утро (я собирался в школу) он обнаружил, что потерял партбилет, — с таким позором он жить не мог и не стал жить…
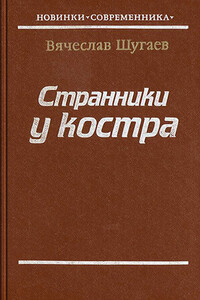
Герои этой книги часто уезжают из дома; одни недалеко, как в повести «Мальчики из Майска», другие за тридевять земель (повесть «Странники у костра»), чтобы оглянуться на свои дни — так ли живут? — чтобы убедиться, что и в дальних краях русские люди деятельны, трудятся азартно, живут с верой в завтрашний день. А Иван Митюшкин из киноповести «Дмитровская суббота» вообще исколесил всю страну, прежде чем нашел свою судьбу, свою горькую и прекрасную любовь. И сам автор отправляется в поля своего детства и отрочества (рассказ «Очертания родных холмов»), стремясь понять ностальгическую горечь и неизбежность перемен на его родине, ощутить связь времен, связь сердец на родной земле и горячую надежду, что дети наши тоже вырастут тружениками и патриотами.

Дед Пыхто — сказка не только для маленьких, но и для взрослых. История первого в мире добровольного зоопарка, козни коварного деда Пыхто, наказывающего ребят щекоткой, взаимоотношения маленьких и больших, мам, пап и их детей — вот о чем эта первая детская книжка Вячеслава Шугаева.
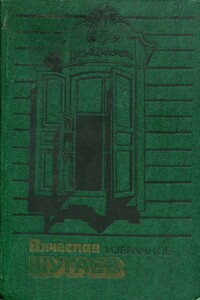
В книгу лауреата Ленинского комсомола Вячеслава Шугаева «Избранное» входят произведения разных лет. «Учителя и сверстники» и «Из юных дней» знакомят читателя с первыми литературными шагами автора и его товарищей: А. Вампилова, В. Распутина, Ю. Скопа. Повести и рассказы посвящены нравственным проблемам. В «Избранное» вошли «Сказки для Алены», поучительные также и для взрослых, и цикл очерков «Русские дороги».

Что делать, если Лассо и ангел-хиппи по имени Мо зовут тебя с собой, чтобы переплыть через Пролив Китов и отправиться на Остров Поющих Кошек? Конечно, соглашаться! Так и поступила Сора, пустившись с двумя незнакомцами и своим мопсом Чак-Чаком в безумное приключение. Отправившись туда, где "розовый цвет не в почете", Сора начинает понимать, что мир вокруг нее – не то, чем кажется на первый взгляд. И она сама вовсе не та, за кого себя выдает… Все меняется, когда розовый единорог встает на дыбы, и бежать от правды уже некуда…

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).

Судьба иногда готовит человеку странные испытания: ребенок, чей отец отбывает срок на зоне, носит фамилию Блаженный. 1986 год — после Средней Азии его отправляют в Афганистан. И судьба святого приобретает новые прочтения в жизни обыкновенного русского паренька. Дар прозрения дается только взамен грядущих больших потерь. Угадаешь ли ты в сослуживце заклятого врага, пока вы оба боретесь за жизнь и стоите по одну сторону фронта? Способна ли любовь женщины вылечить раны, нанесенные войной? Счастливые финалы возможны и в наше время. Такой пронзительной истории о любви и смерти еще не знала русская проза!