Русская Венера - [102]
Стих закат за пожарной каланчой, небо заглохло до первой звезды, а мы вдруг припомнили: говорят, какие-то бродяги ночуют на кладбище — на днях там костер видели; говорят, вокруг костра и скелеты посиживают; говорят, кто-то бродит в полночь меж могил, стонет, плачет, а то заходится в дурном крике: «Живой крови хочу», — и вроде бы ноги от этого крика отнимаются. Мы, нервно посмеиваясь, храбрились друг перед другом: «Нас на крик не возьмешь».
На каланче пробило одиннадцать. По глухим улочкам, по остывшей ласковой пыли потащились мы к кладбищу, и хоть никто не кричал, не хохотал, не плакал, ноги наши уже отнимались. На выгоне перед кладбищем мы сели в траву, вглядываясь в тихую, вздыбившуюся тьму. «А там вовсе глаз выколи». — «Да это же деревья…»
На каланче ударило полночь.
Если за оградой кто-то есть, он уже слышит, как угодливо перед страхом колотятся наши сердца. Как собачьи хвосты по полу. За оградой — шепоты, шелесты, кто-то покашливает. «Смотри, что-то белое шевелится!» Мы замерли, как бы растаяли в легком туманце над выгоном — души наши без оглядки мчались к городским огонькам.
«Наверно, памятник…» — «Наверно…» — «Пошли?» — «Пошли».
Бесчувственные, с колокольным звоном в ушах перелезли через забор — я неловко спрыгнул, попятился, ткнулся в деревянный крест, ухитрился не вскрикнуть, поднялся с мокрой, липкой травы. Нарочно громко спросил, вдруг до ломоты в теле устав бояться и чувствуя, как от громкого голоса становится легче: «А как же мы сирень-то найдем?» — «На ощупь. Или по запаху». Вытянув руки, задрав головы, брели мы меж могил. Хватались за кусты и, пригибая, шумно, с присвистом внюхивались. «Кажется, вот. Точно, вот».
Прохладные, устало пахнущие кисти коснулись щеки.
На бесшумных радостных крыльях перемахнули выгон, нырнули в теплую, безопасную уличную тьму и вынырнули под окнами Роберта. Осторожно, но все же не скрывая нетерпеливого торжества, побарабанили в раму — молчок. Еще раз, но уже по стеклу — дрогнули занавески, приникло чье-то лицо. «Роба, проспорил, выходи! Держи сирень!» И мы потыкали ветками в окно.
«Я вам постучу! Ну-ка пошли отсюда! Шпана сапожная!» — кричала мать Роберта, не открывая окна, но хорошо было слышно. Мы сползли с завалинки, посидели на лавочке у ворот — интересно, почему мы сапожная шпана? Может, спутала с братьями Харитоновыми, жившими от нас через три улицы, — у них в самом деле отец был сапожник.
«К тебе пойдем? Или ко мне?» Летом мы все спали в сараях, на сеновалах, в чуланах, а чтобы уже вовсе выбиться из-под материнского догляда, каждый вечер отпрашивались друг к другу ночевать — для приключений и похождений были всегда готовы.
Роберт вышел к нам утром заспанный, злой, видимо, вернулся позже нас. Только усики чернели свежо и бодро. Повертел привядшие ветки сирени.
«Чем докажете, что они с кладбища?» — «Так мы ж договорились. Оттуда принести». — «А может, вы у школы наломали?» — «Ну правда, мы на кладбище были! На каланче пробило, и мы полезли». — «Вранье! У школы наломали, — Роберт оживился, приласкал пальцем усики, подбоченился — во всем своем праве и наглости. — Думать надо, когда спорите. — Он отбросил наши ветки. — Подставляйте лоб. Кто первый?» — «Роба, но мы же были!» Я уже понял, что ничего мы ему не докажем, он и спорил-то, предвкушая вот этот кураж. «Ага. Ты сегодня первый. Ну, где наш лобик?»
Я хотел ударить его головой в живот, но Роберт откачнулся в сторону, ухватил меня за шею, пригнул и швырнул с крыльца: «Большой стал, да?» Я схватился за камень, но Роберт снова опередил меня, выбил камень, больно крутнул уши — в бессильной ярости я хоть как-нибудь хотел достать его: ногами, зубами — он, хладнокровно посмеиваясь, не подпускал меня…
— Коля, а ты помнишь этого Роберта?
— И про сирень не помню.
Николай слушал невнимательно, отвлекаясь на частые утренние «здравствуйте», с непременным здесь именем-отчеством и замедлением шага.
— Скоро придем?
— Скоро. В любой конец ходу пятнадцать минут.
Да, конечно, скоро — узнаю́ бревенчатый дом на высоком фундаменте, и тополя у дома узнаю́, и так радуюсь их непропавшей величавости, что чуть не бормочу нечто приветственно-сбивчивое, как при редких встречах с однокашниками. В доме этом жила Света Ибатуллина, девочка со скудными косичками, челочкой, потаенными веснушками, нежно проступавшими лишь в минуты волнения, и серо-зелеными, очень серьезными глазами. Серый, зеленый, голубой цвет глаз вовсе не мой излюбленный, как можно вывести из этих страниц, а устойчивое проявление мензелинских кровей, так что и впредь от синевы в глазах земляков никуда не деться. В третьем или в четвертом классе нас посадили за одну парту, и, когда зазвенел неизбежный ехидный дискант: «Жених и невеста…» — Света, побледнев и враз опушившись веснушками, серьезно сказала: «Не обращай внимания на этого дурака». Я согласно покивал, потирая затылок, — кто-то влепил из резинки туго скатанной бумажной пулькой.
Матери наши были хорошо знакомы, и мы со Светой часто виделись после школы. Порой среди чаепития или веселой болтовни мы вдруг затихали, поддаваясь странной стеснительности и какой-то радостной неловкости, должно быть, вмешивались в эти миги — уже без дневных ухмылок — «жених и невеста», а мы догадывались, смутно примерялись к избирающей, тревожной силе союза «и».
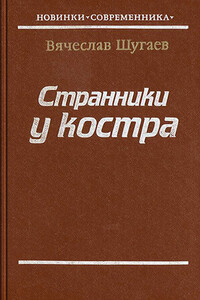
Герои этой книги часто уезжают из дома; одни недалеко, как в повести «Мальчики из Майска», другие за тридевять земель (повесть «Странники у костра»), чтобы оглянуться на свои дни — так ли живут? — чтобы убедиться, что и в дальних краях русские люди деятельны, трудятся азартно, живут с верой в завтрашний день. А Иван Митюшкин из киноповести «Дмитровская суббота» вообще исколесил всю страну, прежде чем нашел свою судьбу, свою горькую и прекрасную любовь. И сам автор отправляется в поля своего детства и отрочества (рассказ «Очертания родных холмов»), стремясь понять ностальгическую горечь и неизбежность перемен на его родине, ощутить связь времен, связь сердец на родной земле и горячую надежду, что дети наши тоже вырастут тружениками и патриотами.

Дед Пыхто — сказка не только для маленьких, но и для взрослых. История первого в мире добровольного зоопарка, козни коварного деда Пыхто, наказывающего ребят щекоткой, взаимоотношения маленьких и больших, мам, пап и их детей — вот о чем эта первая детская книжка Вячеслава Шугаева.
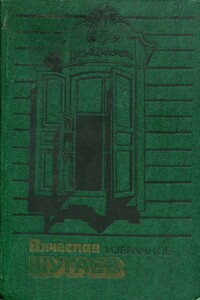
В книгу лауреата Ленинского комсомола Вячеслава Шугаева «Избранное» входят произведения разных лет. «Учителя и сверстники» и «Из юных дней» знакомят читателя с первыми литературными шагами автора и его товарищей: А. Вампилова, В. Распутина, Ю. Скопа. Повести и рассказы посвящены нравственным проблемам. В «Избранное» вошли «Сказки для Алены», поучительные также и для взрослых, и цикл очерков «Русские дороги».

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Можно ли стать богом? Алан – успешный сценарист популярных реалити-шоу. С просьбой написать шоу с их участием к нему обращаются неожиданные заказчики – российские олигархи. Зачем им это? И что за таинственный, волшебный город, известный только спецслужбам, ищут в Поволжье войска Новороссии, объявившей войну России? Действительно ли в этом месте уже много десятилетий ведутся секретные эксперименты, обещающие бессмертие? И почему все, что пишет Алан, сбывается? Пласты масштабной картины недалекого будущего связывает судьба одной женщины, решившей, что у нее нет судьбы и что она – хозяйка своего мира.

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).

Судьба иногда готовит человеку странные испытания: ребенок, чей отец отбывает срок на зоне, носит фамилию Блаженный. 1986 год — после Средней Азии его отправляют в Афганистан. И судьба святого приобретает новые прочтения в жизни обыкновенного русского паренька. Дар прозрения дается только взамен грядущих больших потерь. Угадаешь ли ты в сослуживце заклятого врага, пока вы оба боретесь за жизнь и стоите по одну сторону фронта? Способна ли любовь женщины вылечить раны, нанесенные войной? Счастливые финалы возможны и в наше время. Такой пронзительной истории о любви и смерти еще не знала русская проза!

В романе «Крепость» известного отечественного писателя и философа, Владимира Кантора жизнь изображается в ее трагедийной реальности. Поэтому любой поступок человека здесь поверяется высшей ответственностью — ответственностью судьбы. «Коротенький обрывок рода - два-три звена», как писал Блок, позволяет понять движение времени. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. ... С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека - в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях.