Рудобельская республика - [2]
— Да, что ни говорите, мужики, а земля теперь все-таки наша, — сказал немолодой солдат с пшеничными усами и перевязанной грязным бинтом рукой.
— Наша-то наша, а вот будет ли с нее каша? От вопрос! — сомневался сухонький старичок с реденькой бородкою, нависшими бровями и сморщенным маленьким личиком. На старике — вытертая рыжая свитка, на толсто намотанных онучах еле держались лапти. В зубах сопела и свистела маленькая почерневшая трубка. Дед не спорил, он вслух делился своими сомнениями.
Гудел весь вагон. За дымом от самокруток не видно было лиц, только шевелились лохматые тени в овечьих шапках, кожухах и свитках.
К разговору солдата со стариком прислушивался человек в шинели, в солдатских ботинках с обмотками, в фуражке без кокарды. Он сидел в углу, зажав между коленями винтовку; под лавкой лежал его видавший виды солдатский мешок. Он догадывался, что дедок и солдат из их волости, потому что знают про пана Иваненко и про то, как мужики в девятьсот пятом году делили панскую землю, помнят и казачьи нагайки. Однако ни того ни другого во мраке вагона узнать не мог.
— А где ж, браток, ручательство, что эта власть удержится? — не унимался старик. — Дом Романовых триста лет стоял, а Керенского через полгода сдуло. Говорят, будто в бабской юбке дал ходу. Нет, браток, подождать надо, посмотреть, что из этого получится. А земля никуда не денется, если вправду — наша, то нашей и будет.
Человек в шинели протиснулся к проходу, вгляделся в старика.
— А не из Карпиловки, дедушка, будешь? — спросил он.
— А ты чей же такой, угадчик? Подожди, подожди, лицо, кажись, знакомое. — Дед подвинулся поближе: — Эге, а не Романов сынок ты, часом? Только который?
— Глянь-ка, узнал. Александр я, самый старший.
— А я это себе и думаю, не Соловьев ли это, латышок… Проведать своих или насовсем?
— Навоевался и за себя и за тех, кто не родился еще. Хватит! Пора за землю браться. А она, дедушка, наша, и не сомневайся. Кровью за нее заплачено, а купчую сам Ленин подписал.
— А ты, случаем, не контуженный, что ни меня, ни деда не узнаешь? — спросил солдат с перевязанной рукой.
— Ну конечно, Анупрей! — хлопнул Александр солдата по плечу. — Где ж тебя, черта, узнаешь: зарос, высох, только нос да усы торчат. Как это тебя угораздило на дурную пулю налететь?
— А-а, такой-то и беды… Культяпка эта у меня теперь как пропуск, кому ни ткну — дорогу уступают. Словом, домой. Три года не был. Старикам надо помочь на ноги стать.
— А я, брат, седьмой год как из дому. Где теперь этот дом, сам не знаю.
— В Хоромное твой старик с Ганной и Марылькой в самом начале войны перебрались, — сказал дедок с жиденькой бородкой. — Его пан с Хлебной поляны турнул. А сколько он там, бедолага, корчей повыворачивал, сколько корней повыдрал, земля там теперь как пух стала, а пан его коленом под зад — иди куда хочешь. Так он у Гатальского теперь на третине[2] перебивается. С сеструхою твоей вдвоем впряглись, а сыны за веру, царя и отечество в окопах красной юшкой умываются.
— Теперь-то и я вижу, что это дядька Терешка. Извелись же вы что-то, если б где встретил, так и не узнал бы.
— А то и не диво. Не со свадьбы, браток, еду. Десять месяцев вшей в бобруйской тюрьме кормил. Баланды с таранькой похлебаешь, сухарь погрызешь — и целый день дрова пилишь.
— За что же это вас? — спросил Александр.
— А лихо их матери знает, за что. Набрехал эконом, что я будто снопов сколько-то там ячменя панского украл. Таскал, таскал меня урядник, потом в волостной темной с крысами воевал, а он, ирод, придет да ножнами сашки так исполосует, что ни стать, ни сесть. А я же ни сном ни духом ничего не знал. И как раз перед тем, как Николая скинуть, упекли меня, выродки, аж на три года. Инператора турнули, дак тех, кто супротив царя говорили и афишки расклеивали, повыпускали, а мне говорят: «Сиди, ворюга!» Так и сидел. Знал бы, что так обернется, то и вправду украл бы, да не ячменя, а пшенички хотя бы на затирку[3]. Большевики, спасибо им, выпустили. Пришел какой-то их главный, черненький, кучерявый, распахнул двери и говорит: «Выходите, товарищи, слабода!» Ленин, говорит, декрет выпустил: земля, значит, мужику, а заводы мастеровым. Это самое и называется совецкая власть, говорит, а тюрьмы и церкви сровнять, значит, с землей. Ну, тюрьмы я бы и сам поджег, а что им церкви мешают? Как говорится, без бога — ни до порога. Без веры человек — как та скотина безрогая.
Александр засмеялся. Он положил руку на плечо старика:
— Церковь, дядька Терешка, — та же тюрьма для души человека. А земли поповской по России сколько… Она же наша, та земелька. На фронте жеребцы гривастые с крестами в руках горланят, убивать благословляют, на смерть живых соборуют, а за кого? Вот и кумекай, кому тут верить.
В фонаре догорела свечка. Вагон стучал и скрипел, подрагивая на стыках и стрелках. За окном чернела осенняя ночь. Александр на самой верхней полке заметил новые хромовые сапоги, высунувшиеся из-под офицерской шинели, темный затылок, ухо и лицо, прикрытые щегольской фуражкой без кокарды.
— Какое-то «их благородие» едет в наши края, — кивнул он вверх.

Хаджи-Мурат Мугуев родился в 1896 году в г. Тбилиси в семье военного. Окончил кавалерийское училище. Участник первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. В книге воспоминаний «Весенний поток» автор повествует о героических делах воинов 11-й армии, защищавших Астрахань и Кавказ в 1919–1920 годах. В тот период Х.-М Мугуев работал в политотделе армии, выполнял специальные задания командования в тылу врага.

Книга написана по воспоминаниям полковника царской, впоследствии советской армии, потомственного донского казака Герасима Владимировича Деменева (фамилия изменена), посвятившего свою жизнь служению и защите Отечества. В судьбе этого русского офицера отразилась история России начала и середины XX века. Главный герой сражался на полях Русско-японской войны 1904–1905 годов, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, был награжден многими орденами и медалями царской России и советского правительства.

На фронте ее называли сестрой. — Сестрица!.. Сестричка!.. Сестренка! — звучало на поле боя. Сквозь грохот мин и снарядов звали на помощь раненые санинструктора Веру Цареву. До сих пор звучат в ее памяти их ищущие, их надеющиеся, их ждущие голоса. Должно быть, они и вызвали появление на свет этой книги. О чем она? О войне, о первых днях и неделях Великой Отечественной войны. О кровопролитных боях на подступах к Ленинграду. О славных ребятах — курсантах Ново-Петергофского военно-политического училища имени К.
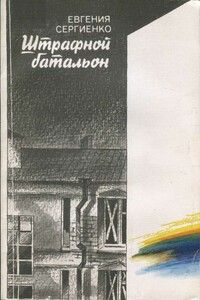
В книге представлены разные по тематике и по жанру произведения. Роман «Штрафной батальон» переносит читателя во времена Великой Отечественной войны. Часть рассказов открывает читателю духовный мир религиозного человека с его раздумьями и сомнениями. О доброте, о дружбе между людьми разных национальностей рассказывается в повестях.

Главная героиня повести — жительница Петрозаводска Мария Васильевна Бультякова. В 1942 году она в составе группы была послана Ю. В. Андроповым в тыл финских войск для организации подпольной работы. Попала в плен, два года провела в финских тюрьмах и лагерях. Через несколько лет после освобождения — снова тюрьмы и лагеря, на этот раз советские… [аннотация верстальщика файла].

События, описанные автором в настоящей повести, относятся к одной из героических страниц борьбы польского народа против гитлеровской агрессии. 1 сентября 1939 г., в день нападения фашистской Германии на Польшу, первыми приняли на себя удар гитлеровских полчищ защитники гарнизона на полуострове Вестерплятте в районе Гданьского порта. Сто пятьдесят часов, семь дней, с 1 по 7 сентября, мужественно сражались сто восемьдесят два польских воина против вооруженного до зубов врага. Все участники обороны Вестерплятте, погибшие и оставшиеся в живых, удостоены высшей военной награды Польши — ордена Виртути Милитари. Повесть написана увлекательно и представляет интерес для широкого круга читателей.
