Рубежи - [93]
Они прислонились к перилам набережной. Далеко внизу огни бакенов и судов на рейде отражались в темной ночной воде, как звезды. Таня представила уютные салоны на пароходах, плеск Волги за бортом, мирные беседы пассажиров, расположившихся в плетеных креслах. Неизъяснимая красота покоя, отдыха, и на мгновение ей показалось, что она тоже там, с Фоминым.
— Герасим Родионович! Вы скучаете без жены, без семьи? Я не настаиваю на ответе, разумеется. Мне нужно кое-что понять для себя.
Почему она задала такой вопрос? А почему бы нет? Она была благодарна Шамину и за то, что он умеет молчать, и за то, что говорит просто, человечно, говорит с ней, как с другом.
— Человек порой бывает удивительно противоречив, — не отвечая прямо на вопрос, говорил Шамин. — Когда меня нет дома, мне хочется видеть жену, скучаю без нее, вспоминаю мелкие обиды, которые я причинял ей, обвиняю себя в этом и ничуть не думаю о тех, которые она мне доставляла. В такие минуты настроение бывает настолько тревожным, что я бегу на почту и пишу письмо, случается и телеграмму, при этом чувствую только любовь и тоску. Много лет я не задаю себе вопроса, люблю ли я жену? Это что-то большее. Она мне необходима, и жизнь без жены, без детей была бы бессмысленной. («Без детей… Да, конечно», — подумала Таня, и грустинка царапнула сердце.) Теперь представьте, — продолжал Шамин, и Таня не сомневалась в искренности его рассказа, — когда прилетаю домой на месяц-два, я начинаю испытывать чувство другого рода. Откуда-то появляется раздражительность, беспричинная, нелепая, проскальзывают грубые слова. Конечно, так не всегда. И сам знаю, что это несправедливо, неумно, хочется вернуть сказанное грубо, но поздно. Слово не воробей. Жена отвечает тем же. Она простит все, что угодно, только не грубость и не отсутствие внимания. В ее отношениях нет середины: то она слишком нежна и ласкова, при этом ее доброта не имеет границ, то бывает настолько оскорблена, хотя для этого как будто и причин основательных нет, что успокоить ее трудно и удается не сразу. Нужно время. Бывало, что я улетал, не примирившись. Мы оба страдали. Уже не было обиды, и самолюбие в кулаке. Каждый готов признать вину за собой, но этого сделать нельзя. Нас отделяло пространство и время. Тогда прибегаем к письму, телеграмме. Мы оба впечатлительны, иногда болезненно мнительны. Для того чтобы нам поссориться, достаточно одного взгляда, чужого взгляда, не только повышенного тона.
— Это непонятно и, простите, ужасно глупо. Неужели после стольких лет жизни вместе, все еще не проходит стремление подчинить себе волю другого? Зачем она, такая воля, если есть любовь? Разве нельзя не обращать внимание на маленькие обиды, слабости, не опасаясь за свое самолюбие, если эти слабости любимого человека и если они кратковременны, непостоянны, прощать их.
— О, до этого люди еще не дошли, да и вряд ли дойдут. Мне кажется, если бы кто-то из супругов был постоянно покорным и безответным, было бы хуже. В таких обстоятельствах и любовь может потускнеть.
Таня засмеялась:
— Мне не совсем понятна такая теория. Выходит, сердясь, вы поддерживаете друг в друге любовь или огонек, что ли?
— Это не теория. Иногда мне кажется, такие отношения бывают у людей с одинаковыми характерами. Но как бы горьки ни были часы размолвок, жизнь в целом целеустремленная, содержательная и не скучная, во всяком случае. Мы независимы и, можем быть, поэтому подходим друг к другу.
— И верите друг другу?
— Верим, потому что любим.
Мимо прошли два офицера в форме военных летчиков. Таня проводила их быстрым взглядом. Обрывки воспоминаний… Юность, первая любовь, которая жила в ней годы. Когда пришла другая любовь, ушла юность?..
— Пойдемте отдыхать, я очень устала.
В гостинице на аэродроме, засыпая, Таня продолжала думать о муже, и образ Фомина вдруг становился похожим на задорное, мальчишеское лицо Астахова. Потом опять родное лицо Дмитрия. Нет, все в прошлом. Жизнь здесь, беспокойная, требовательная. Завтра в путь, дальше на восток к степям, потом домой. Ее ждут. Ее всегда будут ждать. За окнами слышен шум моторов, ровный, слабый, привычный, но иногда моторы ревут, сливаясь в один мощный гул, но тут же гул тает в воздухе, уходит совсем… Взлетел очередной самолет, ушел в ночь, к звездам. Рассвет его застанет в воздухе…
7
Трудно было Фомину работать над задуманной книгой. Он зачеркивал слова, предложения, писал снова, в конце концов отбрасывал лист в сторону и брал чистый. Он слышал: важно отправное начало, потом легче, но начало действительно не ладилось. Мысли в хаотическом состоянии, и точные слова никак не ложатся на бумагу. Он перебирал исписанные листы и думал, как связать героев повести с событиями, с жизнью, друг с другом. Он перебирал в памяти события прошлого, людей, убеждал себя, что торопиться не следует. Думай, думай, и когда мысли станут стройными, последовательными, логически осмысленными, — бери карандаш. Почти месяц упорного труда. Исписаны десятки листов. Не задумываясь над стилем, не имея определенного сюжетного плана, он писал о том, что чувствовал, чем жил много лет. Он как бы вновь встречался с друзьями в суровые годы испытаний. Сначала на страницах мелькали разные люди, возникавшие в памяти по мере того, как писал. Очень много их, не по плечу ему. С сожалением он вынужден был расставаться с ними, с хорошими людьми, которые окружали его в трудное время. Как сделать своих героев цельными, как рассказать о них, чтобы и на страницах они были живыми, во плоти, как в памяти. Девушки из аэроклубов, ночные бомбардировщики, полеты в тыл врага. Истребители, спасавшие его дважды от гибели, жестокие бои в воздухе, смерть и победа, и всюду люди и одно желание: победить, хотя бы ценой собственной жизни. Сначала он думал писать больше о себе, о своем пути, о своей жизни, но после первых же страниц отбросил эту мысль. Что можно рассказать только о себе? Говорить о своих ощущениях в боях, о сбитых самолетах, о том, как он умирал, продырявленный вражескими пулями? Об этом написано много за годы войны, ничего нового он не расскажет, а вот люди, с которыми он жил и боролся, живые и мертвые, и все разные, но замечательные люди, вечно живые… о них писать легче и проще. Он и себя видит только с ними. Их действия — это его действия. Ему всегда было трудно рассказывать о себе, и сейчас так же. Другие ему более понятны, чем он сам, и не потому, что он не знает себя, а от уверенности, что его жизнь была правильна или почти правильна, и говорить об этом было бы нескромно, и страницы были бы неубедительны. Несколько дней он намечал композицию повести, приводил в порядок исписанные листы, заменял слова, искал новые, свежие и, когда было трудно, читал книги, пытаясь понять секрет мастерства, секрет умения рисовать природу, людей. С природой ничего не получалось. Он слышал взрывы бомб, гул моторов, пулеметную трескотню и свист пуль. Видел исковерканную землю, изрезанное темными полосами небо и писать об этом мог часами. Но это же не все! Хотел представить себе природу: весна, свежая зелень лесов, травы, оживающую землю и тысячи звуков, носящихся в воздухе, но все это оставалось как бы в стороне и не откладывалось в памяти, но это было, было… И все же писал он о войне и ничего, кроме войны, так ярко не видел, и еще писал о любви. Она родилась среди пожарищ, под грохот боев: не было ни соловьев, ни весны, ни цветов. Он любил, и эта любовь была новой жизнью. Месяц он жил образами, был снова на фронтах. Повесть приобретала форму, он это видел, чувствовал, упорно искал свой язык. Досадовал, когда страницы бегло рассказывали о главных событиях, бегло и неубедительно. Так хотелось вложить душу в строчки, но разве может она вместиться в обыкновенную страницу! Что нужно сделать, чтобы в словах был и крик души, любовь и ненависть, чтобы вставали картины великой битвы за свободу родного народа и победа?! Фомин жадно курил, ходил по комнате, восстанавливая в памяти былое, затем бросался опять к столу и писал. Так было, пока не упал… Как и когда это случилось, он не знал, но хорошо помнит, что очнулся на полу мокрый от пота, слабый и безразличный ко всему решительно. Тогда он пошевелил пальцами рук, радуясь этому движению. Это была жизнь. Потом стало холодно, и он добрался до кровати и еще лежал, не двигаясь, час, может быть больше, и вдруг страх, до такой степени никогда не испытанный им, сжал сердце. Неужели так плохо? В санатории говорили: «Бросьте курить. Спокойный образ жизни. Не злоупотребляйте ходьбой». Тогда он не придавал этому значения. Привык. Почему же сейчас такой страх? Может быть, смерть была рядом? А Таня, повесть? Он не сделал и половины того, что должен сделать. Мало прожито. Годы прошли обидно быстро.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
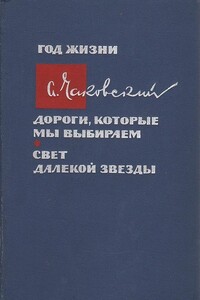
Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
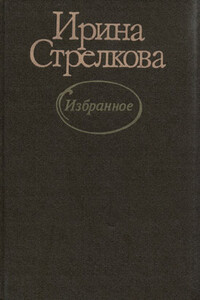
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
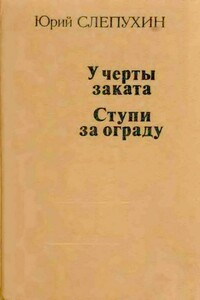
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.