Рождение убийцы - [8]
В конечном счете все споры сводились к определению Святой Троицы, от этого, собственно говоря, зависела судьба всего восточного христианства, более того, христианство как таковое вращалось исключительно вокруг этого самого основного вопроса, обычно дело обстоит иначе, обычно основной вопрос выкристаллизовывается лишь пост фактум, лишь пост фактум становится понятно, о чем спорили, в пользу чего приводили доводы, ссорились, разрывали отношения, убивали сотнями и тысячами, но спорили не о христианстве с его любовью к ближнему: здесь уже с четвертого века споры шли об основном вопросе, и окончательное разделение, в теологическом смысле, случилось именно из-за этого; официально — только с 1054 года, а на самом деле уже с момента возникновения Восточной Римской империи начали свое существование западный и восточный мир, Рим и Константинополь, и восточный мир — речь сейчас пойдет исключительно о нем, о византийском пространстве, — и после разделения не особенно-то успокоился, даже после того, как раз и навсегда было определено: что есть Бог, что есть Христос, что есть Святой Дух и как все функционирует в сферах, превосходящих человеческое понимание, вопрос пришлось решать еще шесть раз — и каждый раз окончательно, проблема заключалась в том, что людям — теологам, архиепископам, епископам, синодальным отцам, одним словом, местным и вселенским соборам и отцам церкви, таким как святой Афанасий Великий, Григорий Назианзин, Василий Великий и Григорий Нисский — приходилось принимать решения по вопросу, сложность которого явно превосходила не столько исключительные способности этих людей, но и вообще человеческие познания, ибо тут уже надо было объяснять, в каких отношениях находятся Господь Бог, Христос и Святой Дух, тончайшие различия между самыми невероятными версиями, настолько тонкие, еретически тонкие, что и не очень-то объяснимо, почему столько символической или реальной крови было пролито по поводу столь незначительного, так называемого теологического вопроса, то есть из-за вопроса о Пресвятой Троице: одни доказывали, что есть только Бог-Отец, были такие, кто признавал превосходство и исключительность Христа, и такие, кто признавал равенство Сына с Отцом, и, наконец, были сторонники полной равноценности — равночестности и сопрестольности Отца, Сына и Святого Духа, — последняя точка зрения в итоге одержала верх, а понятие о единстве и троичности природы Бога стало основой христианского догмата, появились и те, кто все это понял, а так называемый спор о филиокве, то есть о том, исходит ли Святой Дух не только от Отца, но и от Сына, внес окончательный раскол в христианской религии любви, и возник мир православной любви, и огромная, на тысячу лет пережившая грандиозный распад Запада, загадочная Византийская империя, где жизнь подчинялась одновременно жажде роскоши, чувственных удовольствий и религии и где после седьмого собора уже никакие потрясения, расшатывающие все устройство восточной церкви, не угрожали этому фундаментальному догмату; последнее, естественно, вовсе не означало, будто вопрос разрешился окончательно, вопрос не разрешился, любое определение в отношении Бога и воплощения Его в Христе, а также связи со Святым Духом, оставалось в недостижимой мгле, или, если смотреть с точки зрения более поздней материалистической ереси, в сфере логического провала, защищать который было довольно сложно, и помочь тут могут лишь уважение к авторитетам и вера сама по себе, ведь для самых почитаемых святых восточной ортодоксии — от Иоанна Златоуста до преподобного Сергия Радонежского — вопрос об устройстве Триединства никогда не стоял, такая проблема была и оставалась лишь для мирян, не способных, как святые, увидеть воплощение Создателя и постичь мистерию Троицы, не задавать вопросы, но испытать, пережить исключительную концентрацию сотворенного и несотворенного миров, чарующую, чудесную, неизмеримую наивысшую реальность божественной мастерской и творящей силы, облечь которую в слова невозможно, чтобы Церковь или священный собор определил через них, через их святую суть, в чем же заключается не подлежащий более сомнению тезис веры о визуальном выражении, об изображении мистерии Триединства, то есть что Христос, Сын, Вочеловеченный Бог может быть изображен — решение было принято после некоторых споров, правда, эти споры, растянувшиеся лет на сто, о том, что он может быть «писан и воображен», ведь, как формулируется соответствующее решение Стоглавого собора, если Авраам видел их под мамврийским дубом, раз уж так вышло, значит, их можно изобразить — то есть если Авраам узрел Его в трех ангелах, повторяли тысячи и десятки тысяч монахов в монастырях от Афона до Троице-Сергиевской лавры, то ничто не мешает иконописцу написать Святую Троицу, причем в строгом соответствии с предписанием Собора, а практически следуя описаниям источников, согласно которым Авраам увидел однажды в дубовой роще, элоней Море, или в дубраве Мамре, трех крылатых юношей, усадил их за стол, угостил, услышал, что было сказано о будущем Сарры, а в продолжение этого и без того любопытного диалога между Авраамом и знаменитым образом Бога в виде трех ангелов еще и о Содоме и Гоморре; финалом беседы стало обещание Бога помиловать Содом и Гоморру хотя бы ради десяти праведников, однако, судя по тому, что Бог в итоге уничтожил-таки оба города, следует, что Он так и не нашел даже десяти праведных и чистых жителей ни в Содоме, ни в Гоморре, ну да Бог с ними, перейдем к тому факту, что после памятного диалога каждый из его участников вернулся к своим делам: Бог, в каком-то обличии — по поводу обличия как раз и возникают возражения — направляется в Содом и Гоморру, а Авраам мог еще долго размышлять, кого или что он видел, и что ему рассказали под дубом, в общем, именно из знаменитой встречи прародителя Авраама, точнее, из описания этой встречи в главе 18 Первой книги Моисеевой исходит соборное обоснование того, что после сотен вариантов родилось и сохранилось по распоряжению настоятеля Никона Радонежского в память о преподобном Сергии по снизошедшей на Андрея Рублева высшей милости от кроткой кисти и смиренной души иконописца посредством непрестанной молитвы и внушением силы Всевышнего; весть об этом образе, точно волшебным вихрем облетела всю Русь, чтобы в конце концов поколение спустя воспламенить воображение Дионисия — тогда копию с образцовой рублевской иконы заказали для какого-то храма, и заказ выполнил Дионисий, но сегодня уже не доказать, мог ли он один сделать тот самый список, или был кто-то еще, последователь или мастер из артели Дионисия, доказать это невозможно, ведь это произведение, непонятным образом оказавшееся в Третьяковской галерее и более пяти веков спустя после своего создания прибывшее в Барселону в рамках передвижной выставки после Парижа, швейцарского Мартиньи и Канн, по сути своей, настолько совершенная копия оригинального совершенства, что автор уровнем ниже Дионисия не мог бы ее написать ни тогда, ни в другую эпоху — после Рублева художников такой величины, как Дионисий, попросту долго не появлялось на свет, так что он и только он, и притом с высшей помощью, при условии, а условие выполнения заказа могло быть только одно: чтобы поручить написание иконы Дионисию, последний должен был иметь возможность беспрепятственно созерцать оригинал Рублева, то есть Дионисию как можно больше времени надо было провести в Троицком соборе Троице-Сергиевской лавры, ведь ему требовалось продолжительное время, чтобы приобщиться к духу шедевра, духу Рублева, и приблизиться к тому, что открывает икона Святой Троицы, висящая на первом месте справа, рядом с Царскими вратами соборного иконостаса, поскольку требовалось не только с абсолютной точностью скопировать черты фигур и размеры предметов, изображенных на иконе, их форму, контуры, расположение, не просто изучить и понять цвета и пропорции, но и дать обет изобразить Святую Троицу — он обязан был осознавать опасность, угрожающую художнику — будь то даже знаменитый иконописец XV века Дионисий, — если в процессе созерцания иконы выяснится, что он не достоин выполнить священный список с сергиевской Троицы; Дионисий лучше других знал: если душа его не почувствует то же, что чувствовал Рублев в момент написания иконы, то сам он, наверняка, попадет в преисподнюю, а список не получится, превратится в обман, подделку, пустой и жалкий хлам — напрасно поставят его в местном ряду соборного иконостаса, напрасно освятят, помочь людям он уже не сможет, ведь такая икона ничего не дает, ни о чем не напоминает, лишь обольщает, обещая вести куда-то.
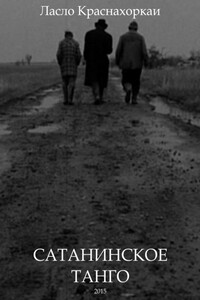
Ласло Краснахоркаи сейчас уже можно смело назвать одним из наиболее известных венгерских писателей. «Сатанинское танго», его дебютный роман, был опубликован в 1985 году. История о жителях безымянного поселка и загадочном Иримиаше, которого одни считают чудотворцем и спасителем, а другие — бродягой и мошенником, изложена плотным модернистским письмом, вызывающим ассоциации со страницами прозы Кафки, Беккета и Маркеса. Эту небольшую книгу, проникнутую эсхатологическими мотивами и своеобразным мрачным юмором, населенную странными, порой безумными персонажами, можно воспринимать и как иносказание, и как повествование о человеческих судьбах, проникнутое любовью, ненавистью и отчаянием.
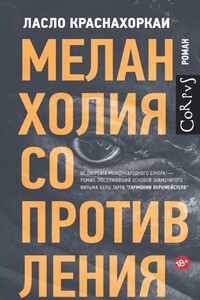
Изумляющая своей стилистической виртуозностью антиутопия выдающегося венгерского прозаика, лауреата Международной Букеровской премии 2015 года Ласло Краснахоркаи написана в 1989 году. Странный цирк, гвоздь программы которого – чучело исполинского кита, прибывает в маленький городок. С этого момента хаос врывается в жизнь обывателей и одно за другим происходят мистические события, дающие повод для размышлений о «вечных вопросах» большой литературы: о природе добра и зла, о бунте и покорности, о невозможности гармонии в мире и принципиальной таинственности основ бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
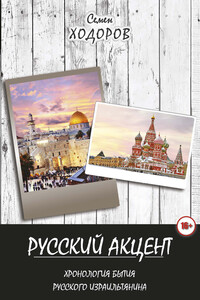
Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.
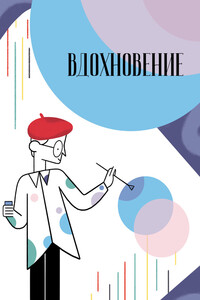
Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
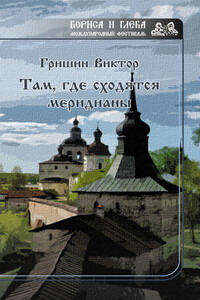
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».
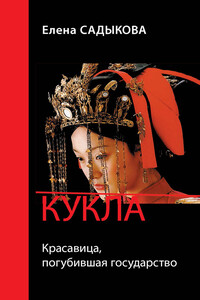
Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.
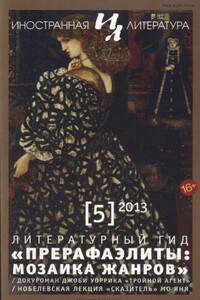
Воспоминания Дионисио Гарсиа Сапико (1929), скульптора и иконописца из «испанских детей», чье детство, отрочество и юность прошли в СССР.
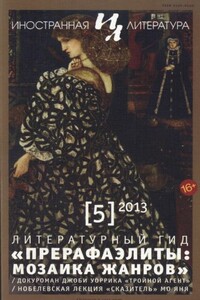
Рассказ польки Магдалены Тулли «Бронек» посвящен фантомной памяти об ужасах войны, омрачающей жизнь наших современников, будь они потомками жертв или мучителей.
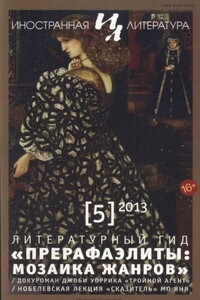
Журналистское расследование американца Джоби Уоррика (1960). Противостояние ЦРУ и «Аль-Каиды», вербовка, жестокие допросы, фанатики-террористы, Овальный кабинет, ущелья Афганистана, Лондон, Амман и проч., словом, полное ощущение, будто смотришь голливудский фильм… Если бы в предуведомлении «От автора» не было сказано, что «курсив в этой книге использован в тех случаях, когда источник информации не ручался за буквальное воспроизведение прямой речи…» А курсива в книге совсем немного! Переводчик (в духе всей публикации) скрывается за инициалами — Н.
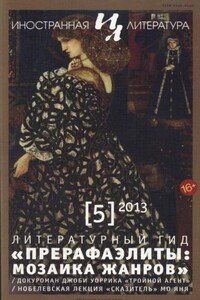
«Литературный гид» — «Прерафаэлиты: мозаика жанров». Речь идет о направлении в английской поэзии и живописи, образовавшемся в начале 1850-х годов и объединенном пафосом сопротивления условностям викторианской эпохи, академическим традициям и слепому подражанию классическим образцам.Вот, что пишет во вступлении к публикации поэт и переводчик Марина Бородицкая: На страницах журнала представлены лишь несколько имен — и практически все «словесные» жанры, в которых пробовали себя многоликие «братья-прерафаэлиты».