Ролан Барт о Ролане Барте - [7]
Двусмысленная похвала договору
Первый образ договора (контракта) был у него, в общем, объективным: согласно контракту функционируют знак, язык, повествование, все общество в целом, а поскольку этот договор чаще всего замаскирован, то работа критика состоит в том, чтобы распутать все нагромождение причин, алиби, видимостей, вообще всякой социальной естественности, и сделать явным тот регламентированный обмен, на котором зиждутся движение смысла и наша коллективная жизнь. Однако на другом уровне договор оказывается дурным объектом: это буржуазная ценность, в которой просто легализуется своеобразный закон экономического возмездия: ты мне, я тебе, говорит буржуазный Договор; а потому в похвалах Счету и Прибыли следует читать Низость и Мелочность. В то же время, уже на третьем уровне, договор все время желанен, как справедливость наконец ставшего «правильным» мира: отсюда любовь к договору в отношениях между людьми, сугубо успокоительное чувство, когда договор может быть заключен, нелюбовь получать безответные дары и т. д. В этом пункте — поскольку в игру здесь прямо включается тело — образцом нормального договора является договор Проституции. Ведь этот договор, объявляемый аморальным во всех обществах и при любых режимах (кроме очень архаических), фактически освобождает от того, что можно назвать воображаемыми затруднениями обмена: что мне думать о желаниях другого, о том, как он воспринимает меня ? При договоре это головокружение устраняется: по сути, это единственная позиция, на которой может удержаться субъект, не впадая ни в один из равно отвратительных образов: образ «эгоиста» (который берет, не задумываясь о том, чтобы нечто дать) и образ «святого» (который дает и не позволяет себе чего-либо просить): тем самым дискурс договора избегает двух видов полноты; он позволяет соблюсти золотое правило всякого жилища, которое мне удалось различить в интерьере коридора Сикидаи >1-«Никакого желания-схватить и в то же время никакого жертвования» (EpS, 823, II).
1. Японский интерьер, снимок которого приведен в книге Барта «Империя знаков» (1970).
Не в такт
Его мечта (тайная?) — перенести в социалистическое общество некоторые из прелестей (не говорю — ценностей) буржуазного быта (таковые есть — по крайней мере, были кое-какие); это то, что он называет не в такт. Такой мечте противостоит призрак Тотальности, требующий осуждать буржуазность целиком, чтобы любая отлучка Означающего каралась бы как поход в дурное место, откуда возвращаешься оскверненным.
А что, если буржуазной культурой (деформированной) можно было бы наслаждаться как экзотикой?
Мое тело существует...
Обычно мое тело существует для меня лишь в двух формах — мигрени и чувственных удовольствий. Не то и другое — не в каком-то неслыханном масштабе, а, напротив, во вполне умеренном, легкодоступном или же излечимом, и в обоих случаях я как бы решаюсь отказаться от образов телесной славы или телесного проклятия. Мигрень — всего лишь первая ступень телесного недуга, а чувственные удовольствия обычно рассматриваются лишь как излишки наслаждения.
Другими словами, мое тело — не герой. Легкость и диффузность недуга и удовольствия (мигрень тоже иной раз ласкает меня) мешают телу превратиться в какое-то чужое, галлюцинаторное место, где заложены резкие трансгрессивные стремления; мигрень (слово, которым я довольно неточно называю обычную головную боль) и чувственное удовольствие — это просто два телесных самоощущения, призванные индивидуализировать мое тело, но не окружать его ореолом какой-либо опасности: мое тело мало театрально по отношению к себе.
Множественное тело
«Которое тело? Ведь у нас их несколько» (PIT, 1502, II). У меня есть тело пищеварения, тело тошноты, тело мигрени и так далее; тело чувственное, мышечное (рука писателя), гуморальное, а в особенности эмотивное — которое то волнуется и движется, то сжимается, ликует или страшится, при том что ничего этого внешне не заметно. С другой стороны, меня пленяет и чарует тело социальное, мифологическое, искусственное (у японских трансвеститов) и проституируемое (у актера). А кроме этих публичных (литературно-письменных) тел, у меня есть еще и два, так сказать, локальных тела — парижское (подвижное, утомленное) и деревенское (покойное, тяжелое).
Косточка
Вот что я однажды сделал со своим телом:
В 1945 году в Лейзине, чтобы произвести экстраплевральный пневмоторакс>1, мне удалили кусок ребра, который затем торжественно и вручили мне, завернутым в медицинскую марлю (тем самым врачи — они были, правда, швейцарцами — признавали, что мое тело принадлежит мне, даже если мне его возвращают в расчлененном виде; я владелец своих костей, как в жизни, так и в смерти). Я долго хранил в ящике секретера этот кусочек себя самого, этакий костистый пенис, похожий на косточку от бараньей отбивной, и не знал что с ним делать; избавиться от него я не решался, боясь покуситься тем самым на собственную личность, и он совершенно бесполезно валялся в секретере среди других «ценных» вещей, таких как старые ключи, школьный дневник, перламутровая бальная записная книжка и футлярчик для карт из розовой тафты, принадлежавшие моей бабушке Б. Но вот однажды, поняв, что назначение таких ящиков — смягчить, сделать привычной смерть вещей, выдержав их в особом благоговейном хранилище пыльных реликвий, где с ними обращаются как с живыми и дают время для унылой агонии, — но все-таки не в силах выкинуть эту свою частицу в общий мусорный бак, я, словно романтически развеивая собственный прах, сбросил косточку вместе с марлей прямо с балкона нашего дома, на улицу Сервандони, где ее, должно быть, обнюхивал какой-нибудь пес.

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
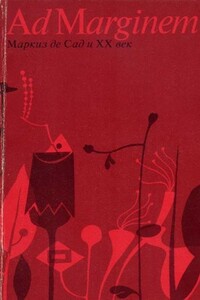
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.
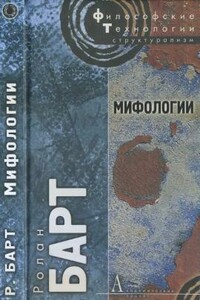
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
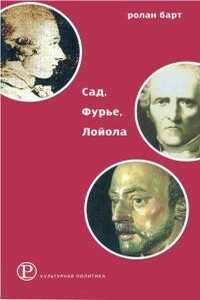
Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник коротких эссе «Мир как супермаркет» поясняет и структурирует романы М.Уэльбека. «Философия жизни» встревоженного европейца 1990-х выстроена в жесткую, ясную, по-писательски простую схему. «Мир как воля и представление», по Уэльбеку, более невозможен. Воля, преследующая некую личную цель и тем определяющая смысл жизни, ослаблена и распылена: «Логика супермаркета предусматривает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания».