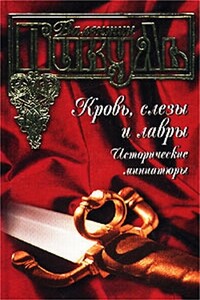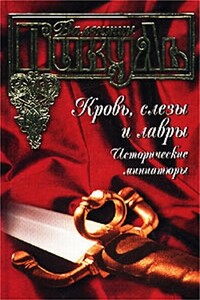Рембо сын - [20]
Я гляжу на комету. Золотой Пояс, Млечный путь, светочи, иже есте на небесех, зримые образы.
В последний раз я открываю Вульгату.
Говорят, что после Брюсселя, в то время, когда Верлен сидел в тюрьме, задолго до бананового поля, Рембо вернулся в лоно семьи; что там, на чердаке в деревне Рош, в Арденнах, среди полей и лесов, где его предки по материнской линии, крестьяне, все вплоть до Витали Кюиф, легли в землю невзошедшими семенами, — именно там, когда пришло время жатвы, этот ужасный молодой человек, это грубое животное, это девичье сердечко, написал «Сезон в аду»; что, быть может, начал он его писать в другом месте, у Ваала, в столицах, где цивилизация оказалась под пятой Ваала, закопченной, футуристической пятой, но закончил здесь, в высокой цивилизации деревенской глуши, в пору жатвы, исполненную Вергилиевой ясности. И когда все они возвращались на кухню, привезя с собой две тачки снопов, брат, две сестренки, мать с ее зимней угрюмостью среди знойного лета, когда, скажем, в четыре часа пополудни они позволяли себе ненадолго зайти в тень и в этой прохладной тени отрезали себе по ломтю хлеба и обмакивали в прохладное вино, чтобы с новыми силами продолжить свое деловитое копошение под палящим солнцем, они, эти жнецы, слышали, как наверху рыдает автор «Сезона в аду»; и в этих рыданиях мы вот уже сто лет хотим услышать скорбь и тоску по Верлену, крах едва начавшейся литературной карьеры, эхо выстрела, выбившего его из колеи; и еще — скорбь по провидчеству, этой магической практике, совершенно необходимой, чтобы приманить слово — в «Сезоне в аду» он без обиняков отрекается от этого футуристического кривляния; но я задаюсь вопросом: а что, если эти рыдания, крики, ритмичные удары кулаком по столу были вызваны не скорбью, а, наоборот, радостью, очень древней, чистой и возвышенной? Возможно, это были рыдания, какие рвутся из души, когда нежданно, раз в жизни, вам на страницу нисходит благодать в виде безупречного стиля и точно построенная фраза тянет вас вперед; какие сотрясают вас, когда точно найденный ритм яростно толкает вас в спину, и вы, оказавшись между ними, преисполнясь восторга, открываете истину, изрекаете смысл, и вы не знаете, как это получилось, но вы точно знаете, что сейчас у вас на странице — смысл, у вас там истина; вы — тот маленький мальчик, который изрек истину; и вы вне себя от удивления, что здесь, в жалкой глуши, в Арденнах, в «Волчьем логове», совсем рядом с этой страшной, безумной женщиной, смысл воспользовался вашей рукой грубого животного, вашей скорбью грубого животного, вашим девичьим сердечком, чтобы еще раз явиться в своей одежде из слов. В своем июньском облачении. Увидев это облачение, вы разражаетесь слезами. Так что жнецы там, внизу, обмакивая свой четырехчасовой хлеб в вино, разбавленное прохладной водой, глубоко ошибались, когда обменивались печальными взглядами и жалели бедняжку Артюра, который так горько плачет на чердаке: ибо то, что они слышали, возможно, было земным отголоском троекратного «свят», которое без устали повторяют во веки веков цари Апокалипсиса, неустанно созерцая славу Божию; и у меня нет никаких оснований думать, что цари Апокалипсиса не рыдают во веки веков, изрекая с безукоризненной точностью троекратное «свят». Вот чем был дикий гвалт, который жнецы слышали наверху. Но, разумеется, Рембо, сколь бы точным ни было его «свят», не созерцал при этом славу Божию; ибо он родился и писал в отвратительное время, в конце XIX века. Поэтому на бумаге перед ним возникала лишь точная фраза в ее пустой славе, а Бога там уже и в помине не было. В другое время дня, например, на рассвете, когда жнецы обмакивали хлеб в те же кружки, что и в четыре часа пополудни, но только не с вином, а с кофе, — они слышали другой голос, тоже очень древний, ferrea vox, железный голос, горячий, властный, деспотичный, голос библейских пророков, брошенных на грешную землю, глубоко обиженных тем, что даже ничтожнейшее из их слов не становится троекратным «свят», они требуют, чтобы Бог показался им, оскорбляют его, оглашают воплями пустую рассветную лазурь. В часы, когда обитатель чердака не был маленьким царем из Апокалипсиса, он становился маленьким пророком Иеремией и опять поднимал дикий гвалт.
Мы не знаем в точности, что такое «Сезон в аду»; мы только знаем, что это высокая литература, ибо тут спорят два голоса, голос царя, славящего Бога, и голос разгневанного пророка, — а к этому спору, по сути, и сводится вся литература. К «Сезонам» написано множество комментариев, больше, чем к Евангелию, но помимо небесного славословия и кощунства мы здесь мало что можем понять; похоже, это акт отречения, но автор ни от чего не отрекается; «да» и «нет» безнадежно перепутались; и мы, умные головы в шелковых шапочках, теперь сидим и без конца распутываем этот клубок, отделяя «да» от «нет». Говорят, что в книге отражен кризис всего Запада; что все его противоречия крутятся здесь, словно в мельничном колесе, рассыпаются мелкими брызгами, словно вода, вращающая колесо, и опять, как ни в чем не бывало, сливаются воедино, словно вода, выходящая из-под колеса. Словно вода в колесе: это наводит на мысль о чем-то радостном, ликующем; и мы не можем понять, означает ли эта книга гибель Запада или его очередное обновление; но, так или иначе, мы сходимся в том, что это чудо, когда человек в девятнадцать лет, на чердаке в Арденнах, создает маленькую стопку страничек, загадочных, как Евангелие от Иоанна, резких, как Евангелие от Матфея, экзотических, как Евангелие от Марка, утонченных, как Евангелие от Луки; и, как Послания апостола Павла, агрессивно современных, то есть восстающих против Книги, выступающих соперниками Книги. Конечно, кое-чего тут не хватает: ибо у этих страничек нет иного новозаветного героя, кроме самого себя, жалкого и опустошенного себя, тут не хватает кого-то
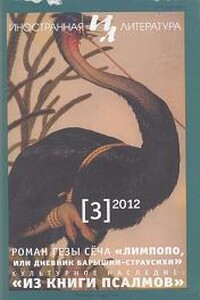
«Император Запада» — третье по счету сочинение Мишона, и его можно расценить как самое загадочное, «трудное» и самое стилистически изысканное.Действие происходит в 423 году нашего летоисчисления, молодой римский военачальник Аэций, находящийся по долгу службы на острове Липари, близ действующего вулкана Стромболи, встречает старика, про которого знает, что он незадолго до того, как готы захватили и разграбили Рим, был связан с предводителем этих племен Аларихом и даже некоторое время, по настоянию последнего, занимал императорский трон; законный император Западной Римской империи Гонорий прятался в это время в Равенне, а сестра его Галла Плацидия, лакомый кусочек для всех завоевателей, была фактической правительницей.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
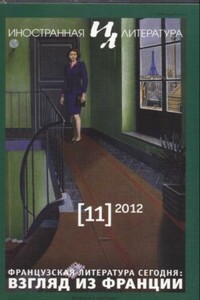
Писатель, критик и журналист Мишель Бродо (1946) под видом вымышленного разговора с Андре Жидом делает беглый обзор современной французской прозы.
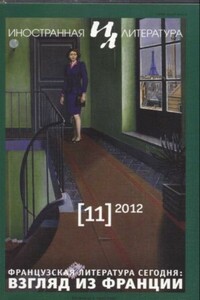
Профессор университета и литературовед Доминик Виар (1958) в статье «Литература подозрения: проблемы современного романа» пробует определить качественные отличия подхода к своему делу у нынешних французских авторов и их славных предшественников и соотечественников. Перевод Аси Петровой.
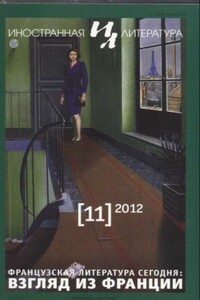
Переведенная Валерием Кисловым антиутопия «Орлы смердят» — вышел из-под пера Лутца Бассмана (1952). Но дело в том, что в действительности такого человека не существует. А существует писатель и переводчик с русского на французский Антуан Володин (1949 или 1950), который пишет не только от своего лица, но поочередно и от лица нескольких вымышленных им же писателей. Такой художественный метод назван автором постэкзотизмом. «Вселенная моих книг соткана из размышлений об апокалипсисе, с которым человечество столкнулось в ХХ веке, который оно не преодолело и, думаю, никогда не преодолеет.
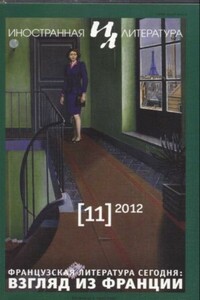
Сюжет романа представляет собой достаточно вольное изложение биографии Николы Теслы (1856–1943), уроженца Австро-Венгрии, гражданина США и великого изобретателя. О том, как и почему автор сильно беллетризовал биографию ученого, писатель рассказывает в интервью, напечатанном здесь же в переводе Юлии Романовой.