Рембо сын - [2]
Об этом, наверное, тоже было сказано, потому что о недовольной гримасе мальчика, стоявшего перед фотографом, и о недовольной гримасе Витали Рембо — которой никто не видел, потому что ни один фотограф, спрятанный под черным капюшоном, не сумел ее запечатлеть, — уже сказано все. Почти все сказано и о третьем члене семьи, облик которого, вероятно, тоже не отличался особенной веселостью, о призраке, который незримо присутствовал при этих сеансах декламации в столовой, о Капитане, чьей фотографией мы на данный момент не располагаем, хотя он, несомненно, в своем Чистилище иногда позировал перед объективом в группе унтер-офицеров какого-нибудь дальнего гарнизона, приглаживая двумя пальцами эспаньолку, или играя в карты, или держась за эфес сабли, или, быть может, именно в ту минуту, когда он вспоминал маленького Артюра. Глядя с одной из таких выцветших коричневатых фотографий, он вспоминает Артюра, сидящего на чердаке в Арденнах; Капитана сто лет никто не видел, горн звучит у него за спиной, но мы этого не слышим. Однажды почитатели Рембо найдут портрет его отца, который вы будете задумчиво созерцать, разглядывать руку, лежащую на эфесе или приглаживающую усы, но вы никогда не узнаете, о чем он думал. Впрочем, на данный момент о том, как он выглядел, нам ничего неизвестно.
Зато нам знакомы лица других родственников Артюра, поскольку мы располагаем их фотографиями, а то и живописными портретами, созданными в эпоху, когда временем мог торговать один лишь художник, имевший в своем распоряжении минеральные краски, а не соли серебра, как впоследствии фотограф со своим таинственным ящиком, снабженным черным капюшоном. Ибо, как мы знаем, были у него и другие предки, давшие ему жизнь и затем жившие рядом с ним — причем не только в виде портретов, — в той же мере общительные и отзывчивые, в какой неприступна была его мать, и в конечном счете более осязаемые, чем его отец: об их существовании неопровержимо свидетельствовали толстые тома с их фамилиями на переплетах, тогда как существование отца могла засвидетельствовать лишь грамматика Бешерелей, забытая в Шарлевиле во время поспешных сборов, — хотя книга эта тоже была весьма увесистой, отцовские заметки на полях, мудреные комментарии и невнятные каракули, выглядели как-то неубедительно; к тому же на переплете не стояла фамилия Рембо, там было написано: «Братья Бешерель». Да, пусть и не состоявшие в кровном родстве с Капитаном или женой Капитана и, казалось бы, столь же маловажные по сравнению с этими двумя, сколь маловажны семь далеких планет по сравнению с Луной и Солнцем, явились перед ним величественные праотцы, светочи, как когда-то говорили, далекие звезды в школьной ночи, Малерб и Расин, Гюго, Бодлер и маленький Банвиль; каждый следующий рождался от предыдущего, точно в вышеуказанном или примерно в вышеуказанном порядке, и в итоге появилась общепризнанная вереница потомков — все они совершенствовали двенадцатисложный стих, все они нанизывались на двенадцатисложник, как сверкающие кольца на карниз, разные, и в то же время похожие друг на друга, и эта едва приметная разность давала им жизнь, давала имя; непомерно длинная пуповина восходила к Вергилию, Вергилию, который не нуждался в двенадцатисложнике, ибо он был Старик, основополагатель, и пользовался соответствующими привилегиями; но начиналась их родословная даже не с Вергилия, даже не с Гомера, возможно, корень ее — само неизреченное Имя; и всем им была дарована привилегия от неземной силы — производить потомство без участия женщин, этих мастериц проклинать, и слово их звучало громче, нежели женские проклятия, притом что книги их были безгласны; и у младшего отпрыска в Шарлевиле на маленькой школьной парте лежала целая стопка предков, которые всегда были в его распоряжении. Он не знал наверняка, сможет ли стать одним из них; а на самом деле стал уже тогда, ибо он не только благоговейно почитал их, но и ненавидел: ведь они стояли между ним и неизреченным Именем, они давили на него, они были лишними. Мы знаем, что в итоге он превзошел их, он сумел это сделать и стал их властелином: он сломал карниз и в результате сломался сам, в два такта и в три хода.
II
И среди всех лиц, что смотрят на нас на церемониях вручения литературных премий
И среди всех лиц, что смотрят на нас на церемониях вручения литературных премий, всех этих париков XVII столетия и бород 1830 года, Расинов, Гюго и прочих, чьи бюсты в ту пору стояли на рояле, за большим букетом пионов, у разных там старых ворчунов, которые считали себя поэтами (и были ими), и чьи портреты в виде грошовых литографий непременно висели в мансардах у глуповатых молодых позеров, которые считали себя поэтами (и были ими), среди всех этих бронзовых и каменных лиц мы выделяем одно, по-своему знаменитое, — лицо поэта Жоржа Изамбара. Увы, муза оставила его с носом, он не сияет среди звезд на ночном небосводе, его нет среди мастеров, сверкающими кольцами нанизанных на карниз, теорию которого мы изложили выше, никто не изваял его бюста, он в пропасти забвения, куда его швырнул двенадцатисложник. Которому он посвятил жизнь. Но карниз любит, кого пожелает. В ранней юности Изамбар еще хотел стать Шекспиром: но это желание прошло в двадцать два года, весной 1870-го, в классной комнате коллежа, из окна которой ученики видели каштаны в цвету и на одной из скамей которой совершалось, видимое одному лишь Изамбару, становление Рембо. Поэт Изамбар навечно сохранит за собой кафедру риторики в шарлевильском коллеже, навечно останется учителем Изамбаром; ему всегда будет двадцать два года, его долгая дальнейшая жизнь не имеет значения, а сборники стихов, написанные и опубликованные им впоследствии, сейчас кажутся пустой тратой времени. Но он был тем молодым человеком в той классной комнате; и его фото присутствует в самом начале сборника иллюстративных материалов по биографии Рембо, хоть и снятое некрупным планом и напечатанное не во всю страницу; так, вероятно, мог бы выглядеть (если бы в те приснопамятные времена уже изобрели фотографию) какой-нибудь малоизвестный предшественник или спутник, некто на вторых ролях, даже не Иоанн Креститель, даже не Иосиф-плотник, а, быть может, старший подмастерье Иосифа, тот, кто научил Сына держать рубанок и о ком даже не упоминается в Новом Завете. В нашем случае, разумеется, рубанком был двенадцатисложник, на французский манер, со всеми его хитростями, какие известны со времен Малерба, но также и с новейшими хитростями, какие изобрели парнасцы — Изамбар считал себя одним из них. С появлением Изамбара школьные гаммы перестали исполняться на невнятном языке церковных песнопений, они легко и просто освоили инструмент, доставшийся по наследству, передававшийся из рук в руки от Вийона до Коппе, — французский язык; польза от такой перемены очевидна: теперь мальчик мог бы преподносить королеве Карабос тирады на ее родном языке, а не на невнятной, унылой, как декабрь, латыни, теперь он мог бы помериться с нею силами, пользуясь, как и она, июньским языком. Однако он этого не сделал; по-видимому, его стихотворные тирады отныне предназначались не для нее, потому что он был уже большой и перестал цепляться за мамину юбку, но, главное потому, что, если бы он продекламировал эти стихи в столовой под люстрой, его любовь, обретя ясность выражения, вспыхнула бы с непомерной силой, и он упал бы к ее ногам, лепеча, как новорожденный, и от слез новорожденного у него перехватило бы горло на первом же стихе, и тогда, быть может, от этой ясности выражения ее проняло бы, и она бросилась бы поднимать его, усадила к себе на колени, вытерла нос, приласкала, утешила; и тогда, быть может, хоть немного утешилась бы сама: но поэзии нет нужды в утешениях, поэзия от них теряет голос. Еще говорят, что под руководством Изамбара гаммы очень скоро стали превращаться в творчество, то есть в людоеда: и если мальчик не захотел читать стихи старой королеве, то это потому, что его гнев вырос, проголодался, ощутил крылья за спиной и семимильные сапоги на ногах, и теперь страстно желал помериться силами с королями совсем иного масштаба, убивать их одного за другим, беспощадно выкапывать под ними колодец, куда их можно будет низринуть. Начал он с Изамбара.
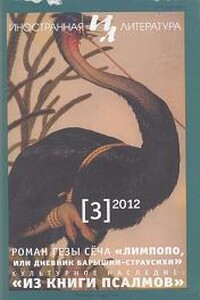
«Император Запада» — третье по счету сочинение Мишона, и его можно расценить как самое загадочное, «трудное» и самое стилистически изысканное.Действие происходит в 423 году нашего летоисчисления, молодой римский военачальник Аэций, находящийся по долгу службы на острове Липари, близ действующего вулкана Стромболи, встречает старика, про которого знает, что он незадолго до того, как готы захватили и разграбили Рим, был связан с предводителем этих племен Аларихом и даже некоторое время, по настоянию последнего, занимал императорский трон; законный император Западной Римской империи Гонорий прятался в это время в Равенне, а сестра его Галла Плацидия, лакомый кусочек для всех завоевателей, была фактической правительницей.
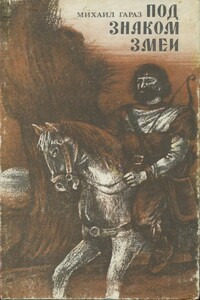
Действие исторической повести М. Гараза происходит во II веке нашей эры в междуречье нынешних Снрета и Днестра. Автор рассказывает о полной тревог и опасностей жизни гетов и даков — далеких предков молдаван, о том, как мужественно сопротивлялись они римским завоевателям, как сеяли хлеб и пасли овец, любили и растили детей.
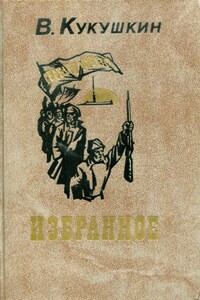
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
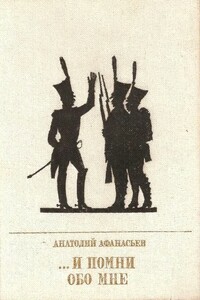
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.

Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
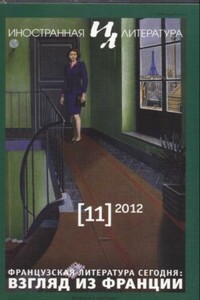
Писатель, критик и журналист Мишель Бродо (1946) под видом вымышленного разговора с Андре Жидом делает беглый обзор современной французской прозы.
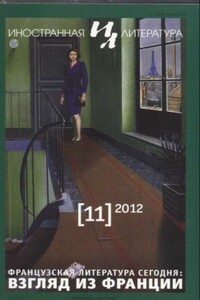
Переведенная Валерием Кисловым антиутопия «Орлы смердят» — вышел из-под пера Лутца Бассмана (1952). Но дело в том, что в действительности такого человека не существует. А существует писатель и переводчик с русского на французский Антуан Володин (1949 или 1950), который пишет не только от своего лица, но поочередно и от лица нескольких вымышленных им же писателей. Такой художественный метод назван автором постэкзотизмом. «Вселенная моих книг соткана из размышлений об апокалипсисе, с которым человечество столкнулось в ХХ веке, который оно не преодолело и, думаю, никогда не преодолеет.
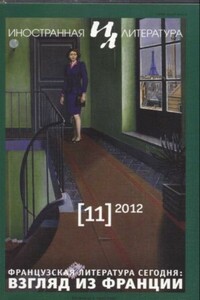
Профессор университета и литературовед Доминик Виар (1958) в статье «Литература подозрения: проблемы современного романа» пробует определить качественные отличия подхода к своему делу у нынешних французских авторов и их славных предшественников и соотечественников. Перевод Аси Петровой.
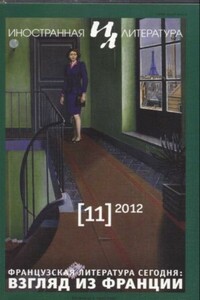
Сюжет романа представляет собой достаточно вольное изложение биографии Николы Теслы (1856–1943), уроженца Австро-Венгрии, гражданина США и великого изобретателя. О том, как и почему автор сильно беллетризовал биографию ученого, писатель рассказывает в интервью, напечатанном здесь же в переводе Юлии Романовой.