Река Лажа - [19]

Написанная под впечатлением от событий на юго-востоке Украины, повесть «Мальчики» — это попытка представить «народную республику», где к власти пришла гуманитарная молодежь: блоггеры, экологические активисты и рекламщики создают свой «новый мир» и своего «нового человека», оглядываясь как на опыт Великой французской революции, так и на русскую религиозную философию. Повесть вошла в Длинный список премии «Национальный бестселлер» 2019 года.

«Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее…» Повзрослевший герой Дмитрия Гаричева пишет письмо погибшему другу юности, вспоминая совместный опыт проживания в мрачном подмосковном поселке. Эпоха конца 1990-х – начала 2000-х, еще толком не осмысленная в современной русской литературе, становится основным пространством и героем повествования. Первые любовные опыты, подростковые страхи, поездки на ночных электричках… Реальности, в которой все это происходило, уже нет, как нет в живых друга-адресата, но рассказчик упрямо воскрешает их в памяти, чтобы ответить самому себе на вопрос: куда ведут эти воспоминания – в рай или ад? Дмитрий Гаричев – поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книг «После всех собак», «Мальчики» и «Сказки для мертвых детей».
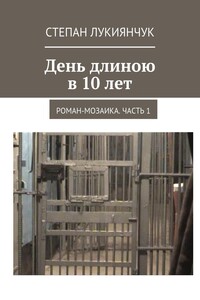
Проблематика в обозначении времени вынесена в заглавие-парадокс. Это необычное использование словосочетания — день не тянется, он вобрал в себя целых 10 лет, за день с героем успевают произойти самые насыщенные события, несмотря на их кажущуюся обыденность. Атрибутика несвободы — лишь в окружающих преградах (колючая проволока, камеры, плац), на самом же деле — герой Николай свободен (в мыслях, погружениях в иллюзорный мир). Мысли — самый первый и самый главный рычаг в достижении цели!

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
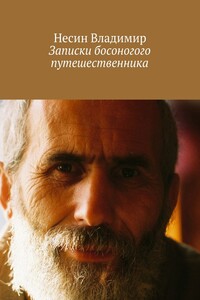
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».