Разруха - [4]
Мама умерла на больничной койке среди пяти соседок по несчастью, рядом с проржавевшим умывальником, в хлорной вони, сочившейся из раскрытой двери туалета, на собственной простыне, потому что у больницы не было денег на такую роскошь, напичканная лекарствами, купленными мной, под ворчание и ругань санитарок и безжалостных медсестер, которым я был вынужден платить, чтобы они ее терпели, небрежно осматриваемая прыщавым врачом, с которым я однажды напился в баре у Иванны. Она умерла счастливой в день своей выписки, веря, что ее вылечили от желтухи, а на самом деле у нее был рак, метастазы в поджелудочной и печени закупорили желчный пузырь. Оперировать ее отказались, но я настоял на своем, продал старушку-Ладу и оплатил операцию. Катетер не помогал, мама стала похожа на свою пожелтевшую фотографию. В больнице настаивали, чтобы мы забрали ее домой как «безнадежный случай». Я ей ни о чем не сказал, избавил маму от унижения страхом, от жестокости ожидания ухода, чем совершил, по буддистским понятиям, грех, не дав ей подготовиться к тому таинству, которое мы окрестили небытием. Кажется, я верю в перерождение — природа разумна и экономна, она бы не позволила растерять, расхитить неповторимость человеческой жизни. Но и в другом я уверен: даже если мы продолжим существовать после ухода, после неизбежного конца, это будет лишь незначительная частичка нас, настолько малая и очищенная от личных чувств, от наших дремучих предопределений и взаимности, что это выскобленное, прооперированное подобие жизни и будет, в сущности, самым убедительным доказательством нашей смерти.
Я помешал ей, потому что любил, промолчал даже тогда, когда она, задыхаясь, простонала: «Помогите же мне!», и только повторял: «Я здесь, я рядом», пока испуганные женщины в застиранных халатах ни потянулись из палаты в коридор, унося с собой свое сострадание — нечто среднее между брезгливостью и чувством облегчения. В какой-то миг мама вздрогнула и затихла, но эта тишина перетекла в меня, вытеснив из сознания все подробности, чувства и мысли, потому что вдруг я остался один. Настолько один и одинок, словно не знал никого и ничего, и своей смертью она родила меня снова. На меня обрушился чужой, смертоносный мир и раздавил тяжестью летнего неба и внезапной ответственностью за грешную мою жизнь. Показалось, что я кричу, и это было последним сопротивлением той неизвестности, которая отняла у меня самого близкого человека, последние крохи одаривающей меня любви. Я уже понял, что остался один, понял, что теперь все стало по-другому. Смерть мамы меня покалечила.
Я просидел в оцепенении минуту или час. Затем в сознание просочился коридорный шум, чей-то смех, звон тарелок на тележке, на которой санитарка развозила по палатам обед, простые вещи: тень от занавесок на полу и жара. Пальцы свела судорога — я намертво вцепился в пододеяльник. Как наполняется пустой стакан, так постепенно мое сознание заполнили все, кого я знал, даже те, кого ненавидел, я почувствовал, что не в состоянии постичь чудо собственной жизни и изношенность своих дней, которую до сих пор я в счастливом неведении не замечал. Чувство собственной мудрости и совершенства вызвало улыбку. Постепенно и утешительно в мои органы чувств вползала больничная нищета, я снова заметил облупившуюся эмаль на койках, утку, которую всего полчаса назад вынул из-под мамы, и в уме у меня промелькнуло название романа, работу над которым я откладывал уже много лет — «Разруха». Наконец появился прыщавый врач, он милосердно закрыл маме глаза и сказал:
— Она не мучилась… Поверьте, господин Сестримски, и ее, и вас ждали адские муки. Вы сделали все, что было в ваших силах… Это легкий конец.
— Мама никогда не причинила бы мне зла, — ответил я, а потом: — Разруха… Ну, конечно, разруха.
— Глянь, как она красива! — мой голос был совсем тихим, как внезапное очарование, охватившее меня.
— Которая? — вздрогнув, спросила Вероника. Она резала лук на столике на балконе рядом со мной, нож ритмично стучал о деревянную разделочную доску. От резкого запаха лука или еще от чего-то, как утром на кладбище, ее глаза набухли слезами. Необъяснимыми слезами, как постоянное изумление в ее глазах.
— Витоша… небо умирает.
Ее груди ритмично колыхались в вырезе домашнего балахона, отвечая мне молчанием, вызывающим молчанием. На меня повеяло ароматом мыла, ароматом ее зрелости. Это будничное занятие вдруг вызвало во мне чувство близости, а его незначительность придала Веронике хрупкости и какой-то прекрасной уязвимости — показалось, что она снова мне принадлежит. После похорон она уже побывала у избалованных сыночков одного нувориша, которым преподавала английский. О них Вероника отзывалась, как о тупых, в их отца, и надменных — в мать, но там хорошо платили, и ей приходилось терпеть с таким же отчаяньем, с каким она терпела меня.
Сосиски кипели на плите рядом с нами, осаживая мой хмель. В ярости от того, что я пропил эти три лева, она сама купила их в магазинчике и принесла вместе с оторванной от сердца бутылкой пива «Мужик в курсе», которая сейчас охлаждалась в холодильнике. В соседней квартире кто-то осваивал скрипку, звуки выдавали такую неумелость и тоску, что у меня перехватило дыхание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
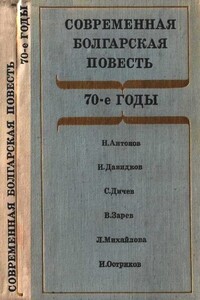
В предлагаемый сборник вошли произведения, изданные в Болгарии между 1968 и 1973 годами: повести — «Эскадрон» (С. Дичев), «Вечерний разговор с дождем» (И. Давидков), «Гибель» (Н. Антонов), «Границы любви» (И. Остриков), «Открой, это я…» (Л. Михайлова), «Процесс» (В. Зарев).

Молодой, но уже широко известный у себя на родине и за рубежом писатель, биолог по образованию, ставит в своих произведениях проблемы взаимоотношений человека с окружающим его миром природы и людей, рассказывает о судьбах научной интеллигенции в Нидерландах.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

1946, Манхэттен. Грейс Хили пережила Вторую мировую войну, потеряв любимого человека. Она надеялась, что тень прошлого больше никогда ее не потревожит. Однако все меняется, когда по пути на работу девушка находит спрятанный под скамейкой чемодан. Не в силах противостоять своему любопытству, она обнаруживает дюжину фотографий, на которых запечатлены молодые девушки. Кто они и почему оказались вместе? Вскоре Грейс знакомится с хозяйкой чемодана и узнает о двенадцати женщинах, которых отправили в оккупированную Европу в качестве курьеров и радисток для оказания помощи Сопротивлению.
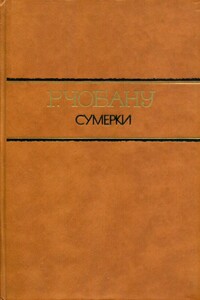
Роман «Сумерки» современного румынского писателя Раду Чобану повествует о сложном периоде жизни румынского общества во время второй мировой войны и становлении нового общественного строя.

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.

История загадочного похищения лауреата Нобелевской премии по литературе, чилийского писателя Эдуардо Гертельсмана, происходящая в болгарской столице, — такова завязка романа Елены Алексиевой, а также повод для совсем другой истории, в итоге становящейся главной: расследования, которое ведет полицейский инспектор Ванда Беловская. Дерзкая, талантливо и неординарно мыслящая, идущая своим собственным путем — и всегда достигающая успеха, даже там, где абсолютно очевидна неизбежность провала…

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Две повести Виктора Паскова, составившие эту книгу, — своеобразный диалог автора с самим собой. А два ее героя — два мальчика, умные не по годам, — две «модели», сегодня еще более явные, чем тридцать лет назад. Ребенок таков, каков мир и люди в нем. Фарисейство и ложь, в которых проходит жизнь Александра («Незрелые убийства»), — и открытость и честность, дарованные Виктору («Баллада о Георге Хениге»). Год спустя после опубликования первой повести (1986), в которой были увидены лишь цинизм и скандальность, а на самом деле — горечь и трезвость, — Пасков сам себе (и своим читателям!) ответил «Балладой…», с этим ее почти наивным романтизмом, также не исключившим ни трезвости, ни реалистичности, но осененным честью и благородством.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».