Размышления о виселице - [2]
Все делается так, как будто в повешении заключается своего рода мрачная любезность, как если бы речь шла о старой семейной шутке, которую неспособны оценить одни только аболиционисты и прочие лица, лишенные чувства юмора.
2 ноября 1950 года г. Альберт Пьерпойнт был призван в качестве свидетеля в Королевскую комиссию по смертной казни. Когда его спросили, сколько лиц он повесил, исполняя свою должность палача, он ответил: «Несколько сот».
В. — Были у вас тяжелые моменты?
О. — Только один за все время моей службы.
В. — Что же произошло?
О. — Это было чудовищно. Нам с ним не повезло. Это был не англичанин, шпион. Он поднял чудовищный шум.
В. — Он дрался с вами?
О. — Не только со мной, со всеми.
М.Г.Н. Джедж, исполняя обязанности помощника шерифа Лондонского комитета, также предстал перед Комиссией по поводу этого неприятного инцидента, который наделал столько шума, и подтвердил показания г. Пьерпойнта.
«Да. Это был иностранец, а лично я не раз замечал, что англичане лучше держатся в этой ситуации, чем иностранцы… Нагнув голову, он бросился на палача и стал отбиваться изо всех сил. Мы попытались связать ему руки ремнем, но — еще неудача! — ремень оказался новым… и ему удалось освободить руки».
Все ясно. Для англичан виселица — верх совершенства; и даже следует думать, будто они любят ее. Хлопоты причиняют одни иностранцы. Эту процедуру они не ценят ни с той ее стороны, в которой заключается много забавного, ни со стороны торжественной и обрядовой; не лучше они относятся и к почтенной традиции, на которую она опирается. По этому последнему поводу стоит привести ответ Лорда Правосудия на вопрос, является ли он сторонником или противником обычая, который предписывает судье, произнося смертный приговор, окутывать голову черным:
«Полагаю, я сторонник этого обычая. Такова традиция, а я не вижу причин отказываться от традиции, насчитывающей несколько веков, по крайней мере, в том случае, разумеется, если не будет весомых доводов в пользу такого отказа… Судья окутывает голову черным, произнося смертный приговор, на мой взгляд, просто потому, что некогда люди покрывали себе голову в знак траура. Поэтому такой обычай и сохранился».
Господин Пьерпойнт также весьма энергично заявил свою точку зрения на традиционные аспекты процесса.
В. — Люди, должно быть, разговаривают с вами о вашем ремесле.
О. — Да, но я отказываюсь говорить об этом. Оно должно, как я полагаю, оставаться чем-то таинственным… Для меня это святыня.
Трудно представить себе двух лиц, более отдаленных друг от друга по своему рангу и достоинству, чем эти два слуги общества. И это обстоятельство делает еще более разительным совпадение их взглядов. Так, когда у лорда Годдарда спросили, что он думает о предложении отменить смертную казнь для женщин, он ответил: «Мне вовсе непонятен такой подход». А когда г. Пьерпойнта спросили, испытывает ли он какое-либо особо неприятное ощущение, казня женщину, он ответил, что не испытывает никакого.
В. — Находите ли вы, что ваш долг подвергает вас особым трудностям при его исполнении, или же вы привыкли к нему?
О. — Сейчас я к нему привык.
В. — Вы никогда не испытывали волнения?
О. — Нет.
У лорда Годдарда не спрашивали, сколько человек он приговорил к смерти и не испытывал ли при этом волнения, но у него спросили, полагает ли он, что необходимо произносить меньше смертных приговоров или же, напротив, замену смертной казни на другие виды наказания стоит осуществлять реже. Он ответил, что смертную казнь заменяют на другие виды наказания слишком часто. Его спросили, считает ли он нормальным, чтобы человека, признанного невменяемым, приговорили к смерти.
Он ответил, что считает это совершенно нормальным.
У меня лично нет никакого пристрастного отношения против Лорда Правосудия Райнера Годдарда, но как высшее должностное лицо королевства он становится воплощением власти, и его мнения, которые мне предстоит цитировать еще не раз, чрезвычайно весомы в этом споре о смертной казни. И аргументы, используемые лордом Годдардом, не случайны: они точно выражают взгляды всех, кто является сторонником сохранения высшей меры наказания. Их доводы и лежащая в основе этих доводов философия, как покажут нижеследующие страницы, не изменились в течение двухсот лет. И вот почему их невозможно понять, не обращаясь к прошлому, которое послужило бы нам путеводителем.
Эшафот и палач во всех западных демократиях, за исключением Франции, — не более чем воспоминания прошлого. Смертная казнь была отменена во многих штатах Северной Америки, почти во всей Центральной и Южной Америке, во многих государствах Азии и в Австралии; всего в тридцати шести странах, составляющих большую часть цивилизованного мира.
Британцы — это признают все — люди дисциплинированные и законопослушные, в среднем они намного превосходят этими качествами граждан большинства наций, отменивших смертную казнь, среди которых следует отметить южноамериканцев с их сангвиническим темпераментом и немцев, в течение многих лет подвергавшихся отупляющему влиянию нацистского режима. И, однако же, защитники смертной казни утверждают, что наш народ, в отличие от прочих, не может позволить себе отказаться от услуг палача, защитника общества и мстителя за него. Они говорят, что пример других народов ничего не доказывает, потому что в нашей стране условия сложились «иначе». Возможно, что иностранцев отвращает от преступлений страх перед длительным тюремным заключением; но на британских преступников действует только виселица. Это парадоксальное убеждение пустило столь глубокие корни в сознании ее приверженцев, что они даже не отдают себе отчета, насколько оно парадоксально. У большинства из них вызывает презрение самая мысль о существовании виселицы, и они признают, что обычай, о коем идет речь, столь же отвратителен, сколь и зловреден. Но они считают, что это необходимое зло. Долгие и страстные расследования в Парламентской Комиссии 1930 года и Королевской комиссии 1948 года показали, что эта вера в полную незаменимость смертной казни как примера — не более чем предрассудок. Как и все предрассудки, этот сходен по своей природе с чертиком в шкатулке: тщетно вы плотно закрываете крышку силою фактов и статистики — чертик снова выпрыгнет из шкатулки, поскольку выбрасывающая его пружина — бессознательная, иррациональная власть традиционных верований. Таким образом, теряет смысл любая дискуссия, если не обратиться непосредственно к корням этой традиции, чтобы извлечь из недр прошлого элементы, оказывающие столь мощное воздействие на наши современные взгляды. Этим мы и займемся. Совершим экскурс в историю Англии: заглянем в ту из ее глав, которая менее всего известна и более всего в пренебрежении.
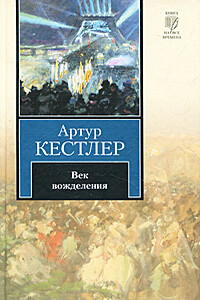
Самый остросюжетный роман Артура Кестлера. «Черная жемчужина» его творческого наследия. Необычный литературный опыт в жанре «альтернативной истории». Что, если бы советские войска не остановились на Эльбе? Что, если бы над Францией нависла угроза новой оккупации? Очередные коллаборационисты уже готовят проскрипционные списки.Молодая американка пытается призвать на помощь Франции остальные державы «свободного мира». Но страны-союзники по-прежнему готовы удовлетворять растущие аппетиты Советского Союза, - а «веселому Парижу», похоже, нет дела до того, что дни его веселья уже сочтены.
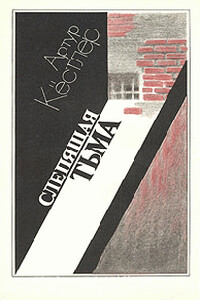
«ДЭМ» публикует перевод широко известного политического романа Артура Кестлера «Слепящая тьма». Любопытна судьба этого произведения: рукопись книги, написанная на немецком языке, пропала. К счастью, уже был готов английский перевод, названный «Мрак в полдень» (по-французски роман называется «Ноль и бесконечность»).Артур Кестлер (1905-1983) прожил сложную, исполненную трагических потрясений жизнь. Еврей по национальности, Кестлер родился в Будапеште, детство и юность провел в Венгрии, Австрии и Германии.
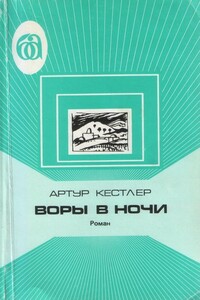
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
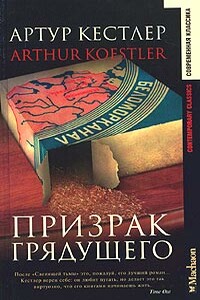
Артур Кестлер (1905 — 1983) — журналист и психолог, писатель и общественный деятель, всемирно известный своим романом-антиутопией «Слепящая тьма» («Darkness at Noon», 1940 г.), ознаменовавшим его разрыв с Коммунистической партией и идеологическое возрождение. Венгр по рождению, Кестлер жил в Германии, Австрии, Франции, недолго — в СССР (Туркмения), Палестине, Испании, США и, до самой своей трагической гибели — в Англии. Большое влияние на творчество Кестлера оказала его встреча в Париже с Сартром (1946 г.), хотя близкими друзьями они так и не стали.«Призрак грядущего» — увлекательный, динамичный роман, в котором на фоне шпионских страстей решаются судьбы людей и государств, решивших противостоять угрозе коммунистического террора.
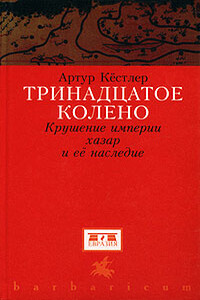
Артур Кестлер нашел оригинальный ответ идеологии антисемитизма. По его мнению, падение Хазарского каганата породило несколько волн миграции, составивших основное ядро исповедующего иудаизм населения Восточной Европы. Поскольку этнически мигранты из Хазарии не были семитами, то несостоятелен и антисемитизм. Привлекая для работы тексты арабских путешественников IХ-Х вв., византийские источники, «Повесть временных лет», труды Артамонова, Коковцова, Тойнби, Вернадского, Данлопа, Кучеры, Поляка и многих других историков, автор предлагает несколько иное видение становления и крушения хазарского государства.
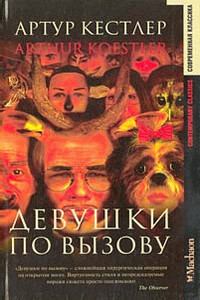
«Девушки по вызову» — отнюдь не то, что подсказывает первая ассоциация: так, в шутку, прозвали группу ученых, кочующих с конгресса на конгресс, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды… Этот роман, названный автором «трагикомедией с прологом и эпилогом» — по сути, философская притча-триптих, где первая и последняя части («Недоразумение» и «Химеры»), казалось бы, никак не связанные ни со второй, основной частью, ни между собой, создают изысканное обрамление, расставляя все нужные акценты.
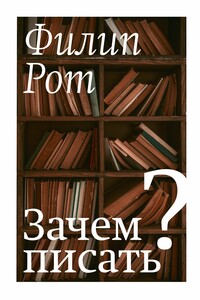
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.
