Растождествления - [8]
В противоположность своему европейскому собрату русский царь всегда значился отцом, даже батюшкой, вследствие чего его самодержавность транспарировала не только теократичностью, но и оттенками некоей вполне фамильярной интимности. Подобного ранга не удостаивался в Европе ни один монарх. Властители Европы могли почитаться под прозвищами вроде: Святой, Благочестивый, Красивый, Смелый, даже Возлюбленный; никому из них, тем не менее, и не пришло бы в голову рассчитывать на народное признание отцовства. Оттого народы Европы всегда ходили в гражданах и никогда, как в России, в детях. Что отец мог быть добрым или злым, умным или блаженным, разумелось само собой. Рассчитывать приходилось при этом только на: повезет или не повезет. Царь–отец заботится о детях. Он их наказывает или милует. Он решает всё. Даже его слабоумие не меняет дела; с ним мирятся столь же покорно, как с судьбой (или несудьбой). Легко догадаться, что импортируемая с Запада рассудочность должна была вступить в конфликт с этим самоощущением. Нельзя стать гражданами, оставаясь детьми. Граждане не заставляют себя долго ждать, если необходимость избавиться от властителя ломится в учебники истории. Они его казнят, предварительно посадив его на скамью подсудимых и дав ему (номинальную) возможность защищаться. Дети терпят отцов, но если им внушают, что исторически необходимо другое, то даже и в этом случае они не казнят отцов, а просто их приканчивают. Давно подмечено удивительное обстоятельство, что царям в России могли прощать что угодно, но только не либерализм. Традиционно на Руси возвеличивались грозные властители и приканчивались либеральные. Александр II, которому Россия обязана Эрмитажем, Г осударственной библиотекой, Академией художеств, восьмью Университетами, освобождением Балкан и отменой крепостного права, разорван бомбой. Сталин, тридцать с лишним лет методически истребляющий и клонирующий собственный народ, в день своей смерти всенародно оплакивается как едва ли кто–нибудь до этого. Если, впрочем, и европейским государям время от времени приспичивало сходить с ума и раздувать свои нелепости (можно вспомнить в этой связи хотя бы уникум акта испанской государственности от 16 февраля 1568 года, согласно которому все жители Нидерландов были, как еретики, присуждены к смертной казни), то вряд ли кому–нибудь из них приходило вообще в голову, что он по этой самой причине мог бы лишь в большей степени слыть родным и отеческим. Прусский Фридрих I гнался за своими подданными по берлинским улицам, колотил их палкой и рычал в бессильной ярости: «Отчего вы не любите меня, паршивые псы?» Представить себе это в России, где можно представить себе всё что угодно, нельзя. Европа (как общество) требовала своих социальных свобод от своих князей — и брала их себе между прочим, даже если это должно было стоить князьям их головы. Бессменной презумпцией российской истории было, напротив: власть, будучи одной, распоряжается социальными свободами, к которым она, в случае надобности, силится подобрать необходимый социум. Русский царь, подобно языческим богам, знает над собой лишь одну власть: власть судьбы. Судьбой было, что юный царь Петр отправился в Европу и потерял свое сердце «в Гейдельберге»[3]. Поскольку, однако, даже царево сердце не могло томиться вне сферы действия его тела, поскольку, с другой стороны, не представлялось возможным пересадить «Гейдельберг» в Россию, влюбленный по уши молодой батюшка принял решение переделать Россию под Европу, так сказать, устроить своего рода «евроремонт» в масштабах одной шестой (или — тогда — почти что одной шестой) земного шара. Первофеномену русского «Просвещения» надлежит воздать должное средствами логики Гоголя: некий чёрт (по версии славянофилов) или некий бог (по западнической версии) дернул юного царя прорубить окно в Европу. Через это окно в чреватое будущим молчание России ворвалось энциклопедическое блеянье, после чего верхняя часть лица её заседателей задергалась в тиках europaesk. Не следует лишь пренебрегать этой перестройкой XVIII века, если не хочешь потеряться в перестройке XX века. Просвещение по–русски значит: царь решает, должно ли по утрам пить водку (по дедовским обычаям) или кофе (как в
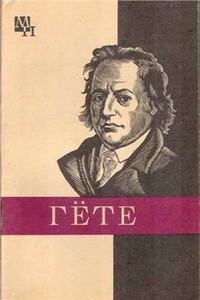
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
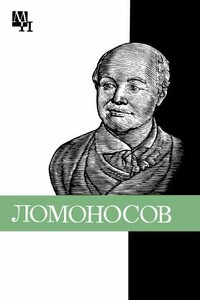
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.