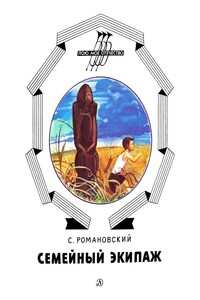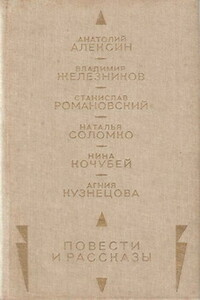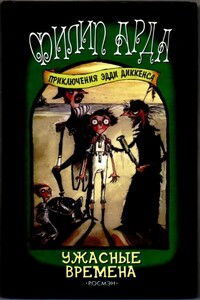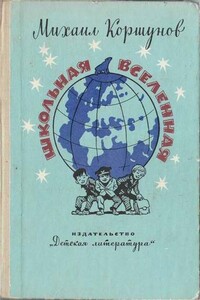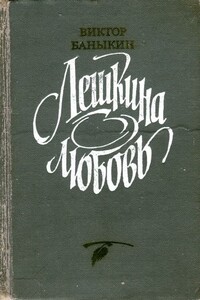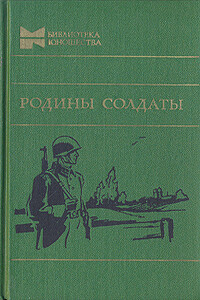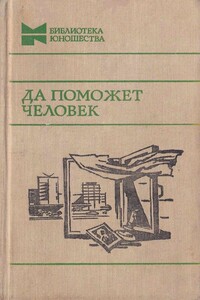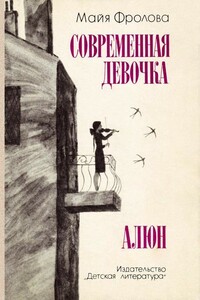— Пора.
— А?! — рявкнул тот.
Обитатели домика зашевелились. Кто-то попросил:
— Выключите там приемник… Пожалуйста…
Ребята дождались, когда домик затихнет, выскользнули на поляну и попали в плотный, дышать трудно, туман.
По тропинке, оббивая босые ноги о корни, дети долго спускались к Каме.
— Не проспали мы? — сопел Никита. — Проспали, да еще как! Люда, поди, заждалась нас.
Почуяв беглецов, взахлеб лаяла собака.
— Откуда она взялась? — сопел Никита. — У нас в лагере ни одной собаки нет. Собираются завести, да никак не соберутся.
Лодку ребята нашли не сразу.
Туман у Камы был еще гуще, чем в лесу, и только по бряканию цепи дети догадались, что лодка здесь.
— Вот она… лодочка-то! Прошли мы ее… А она вот где, родимая! — У Никиты зуб на зуб не попадал от холода, и он, босой и грузный, пританцовывал на галечнике и тянул: — Вот она-аааа…
И встревожился Никита:
— Люды-то нет! Ждать будем или как?
Алеша пробрался в зыбкую мокрую лодку, вынул из-за пазухи теплый пахнущий крахмалом свиток, встряхнул его… Невесть откуда хлынувший ветер, которого, казалось, и в помине не могло быть при таком тумане, вырвал из рук Алеши свиток и, расправляя в полотнище, прилепил к мачте — к перекладине. И полотнище, помимо усилий мальчугана, само по себе, широко развернулось и забилось, загрохотало, заиграло белым нежнейшим светом, среди серого тумана распятое на крестовине мачты. Оно с краями наполнилось тугим веселым ветром!
Лодку развернуло и с силой повлекло на тот берег.
Но цепь, к которой она была привязана, натянулась во всю длину, и лодку отбросило к этому берегу. Алеша стукнулся о скамейку, упал, поднялся и сквозь боль крикнул:
— Никита-ааа… Цепь отвязыва-ааай… Це… ееепь… Аааа…
И голос его, несильный от природы, потонул в грохоте белого паруса.
Но другой голос, взрослый и заспанный, раздался в тумане и перекрыл все остальные звуки:
— Куда это вы, ребята?
Это спрашивал старший пионервожатый Виталий Иванович Латыпов. Большой, плечистый, в спортивном костюме и стеганке, он вытянул лодку с Алешей далеко на берег, сдернул с перекладины простыню, проверил, цела ли она, не порвало ли ее ветром, и, убедившись, что цела, сложил пакетом.
И спросил ребят:
— Кто из вас больше озяб?
Виталий снял с себя стеганку и накинул ее на Никиту.
— Пошли досыпать, ребятки, — сказал вожатый. — До подъема еще часа четыре…
Пока поднимались по тропинке, по сосновым корням, он шел позади ребят, чтобы они не потерялись, и говорил:
— Вас огонь интересует на том берегу, я слышал…
— От кого? — удивился Никита.
— От Людмилы? — вырвалось у Алеши.
— Ребята, вы ее сильно не осуждайте. Простите ее! Она мне вчера вечером сказала: «Виталий Иванович! Веригин Алеша и Трапезников Никита собрались ехать на тот берег огонь посмотреть». — «Какой огонь?» — «Синий. У них простыня вместо паруса. Вон какой ветер. Утонут они. Я сама хотела с ними ехать, да боюсь. Отговорить их не сумею. Не послушают они меня, скажут: «Больше всех храбрилась и струсила!..» Отговорите вы их!» Вчера вечером я с вами поговорить не успел: вы спать легли. И я лег. Сплю я чутко и слышу: поднялись ребятки. Дай, думаю, взгляну, куда это они? Как-никак я за вашу жизнь отвечаю…
Перед дверью домика Виталий Иванович отдал Алеше простыню, взял у Никиты стеганку, передернул плечами и сказал:
— А огонь на том берегу мы все вместе посмотрим. У меня к этой лодке и мотор есть, и весла. Вот только погода наладится, я вас свожу, когда захотите. Я так думаю: там буровики газ нашли, и он горит и день, и ночь.
— Газ желтым огнем горит, — напомнил Никита. — А это — синий огонь.
Виталий Иванович согласился:
— Правильно, синий…
Уснуть ребята не смогли. Никита ворочался с боку на бок и ворчал:
— Вот Людка, а? Вот героиня так героиня! «Я с тобой не пошла бы в трудную экспедицию!» Да таких путешественниц близко к экспедициям подпускать нельзя. «Вилку не в той руке держишь!» Да мы без нее все это знаем. Только помалкиваем…
Под ворчанье Никиты Алеша лежал неподвижно, согревался и согревал собою простыню, пахнущую смолой, туманом и камским ветром. Ему хотелось тихонько, чтобы никто не услыхал, ни одна душа не узнала, зареветь. Отчего? Он и сам толком не мог объяснить. И все же ему дремалось, и в дремоте под ворчанье Никиты наплывали воспоминания о доме, об отце, о матери.
И в этих воспоминаниях мать, как в яви, брала его на руки и уверяла: «Да никто тебя не прогоняет. Никто! Большненький ты мой. Умница… Зернышко-ооо…»