Рассказы - [9]
— Что же странница? — спросили Халевича.
— Подпрыгнула на месте, клянусь вам, на аршин! На полтора аршина!
Эта "неожиданность" совсем бы прояснила настроение гостей, несколько омраченное появлением Тихменева — в самом дело, Халевич, стреляющий в странниц, был забавен, — но дело испортил сильно охмелевший Тихменев.
— Я понимаю свободу иначе, — заговорил он, принимая позу. — "Aux amies citoyens! Formez vos bataillons!" [6] Я русский социал-демократ. А вы? — обратился он к Дровяникову, капризные гримасы которого он замечал.
Старик просто уже успел напиться, но Дровяникова передернуло, и он явственно пробормотал: "Как неискусно!" Кесарийский с невеселым любопытством рассматривал Тихменева. Наступило молчание, которое заставило Тихменева прийти в себя. Он со странной усмешкой обвел взглядом сидевших за столом. Глаза его из злых стали печальными.
— Господа, — наконец заговорил он, обращаясь к Дровяникову и Кесарийскому, — господа, если не ошибаюсь, ваш хозяин ваш друг. Он и мой друг. Я во всех отношениях человек разбитый, бесповоротно, вдребезги. Починить меня нельзя, но забываться с людьми, которые пока чище меня, я еще могу. Я езжу в этот дом вашего друга, чтобы отдыхать. Не отравляйте же мне минуту такого отдыха! — И старик, не опуская пьяного, испуганного и просящего взгляда, неожиданно всхлипнул.
Дровяников и Кесарийский изумленно переглянулись, но изумление их возросло, когда Халевич порывисто встал и подошел к Тихменеву, обнял его голову и крепко поцеловал в лоб.
— Полно, старина, полно, — сказал он растроганным голосом. — Никто вас и не думает обижать… А вы мне действительно друг. Если бы не он, — обратился Халевич к остальным, — двенадцать лет тому назад я пустил бы себе пулю в лоб из того самого ружья, за которое он меня на днях судил…
— Преувеличение!.. — смаргивая слезу, сказал Тихменев. — Во всем польская страсть преувеличивать!.. Однако я непростительно нервен сегодня. Попрошу еще немного вина и — отдохнуть.
Халевич помог старику встать, захватил большую рюмку, графин с "вином" и увел Тихменева.
IX
— Тургенев, конечно, великий писатель, — возвращаясь, от самых дверей заговорил Халевич, — но в любви он ничего не смыслит… То есть, пожалуй, и смыслит, но в любви поэтов, исключительных и избранных натур, а любви обыкновенных смертных не понимает.
Гости с удивленным вопросом в глазах уставились на него. Заметив это, Халевич посмотрел на них тоже удивленно и вопросительно — и хлопнул себя по лбу.
— Это я хочу вам рассказать, за что я люблю Тихменева. Это история несчастной любви, моей несчастной любви; а утешителем был Тихменев, — объяснил Халевич и продолжал:- Да, Тургенев не знает обыкновенного человека, уверяю вас… Двенадцать лет тому назад я был влюблен. Я — средней руки помещик, она — средней руки помещичья дочь. Наша любовь была любовью средней руки усадьбы. В усадьбе есть дворня, около усадьбы деревня; поэтому и сама усадьба любит сильно, по-мужицки, попросту… Любовь — это тайна, говорят поэты. А в людских, в деревнях и по усадьбам отлично знают, что за штука эта тайна. Если с нее снимают покров не вполне, так потому, что боятся последствий. Впрочем, это я мимоходом… Поэты уверяют, что люди влюбляются только в совершенства. Мой предмет был всего только толстенькой, розовой булочкой, но перипетии любви так раззадорили мой аппетит, что я отдал бы все на свете, чтобы булочку съесть. Хитрая булочка, конечно, остерегалась и довела меня до того, что я думал, будто нет на свете вкуснее ее.
— У Тургенева любовники являются на свидания прилично одетыми, — все более одушевляясь, говорил Халевич. — Любовники деревень, помещичьих людских и средней руки господских домов отправляются в том, в чем их застал удобный момент. Днем, попятно, в полном параде, но ночью, когда нужно ускользнуть от строгой матери, которая спит рядом, на лавке, от сплетницы экономки, за перегородкой, или от папы и мамы, почивающих в соседней комнате, некогда делать особенно сложный туалет… Тысячу извинений, Катерина Ивановна!
— Продолжайте, продолжайте! — крикнули Халевичу,
— Пойдемте в соседнюю комнату, — пригласил слушателей Халевич.
— Зачем?
— Пойдемте… Вот, это у нас гостиная. В ней все, как и двенадцать лет тому назад, — и в эту минуту у меня, при взгляде на нее, по-тургеневски сжимается сердце от сладких воспоминаний. Она гостила у нас все лето и спала в доме. Я — во флигеле. Когда все улягутся, она приходила сюда из своей комнаты. Я прокрадывался из флигеля и влезал в окно. Возвращался я к себе во флигель, пятясь задом и руками заметая свои следы на песке дорожки. У Тургенева я что-то не помню таких положений…
— Вот диван, — продолжал Халевич, — тот самый диван! Почти около него окно, а в окне форточка, которую вы видите. Глубокая ночь. Диван освещен полной луной; а он и она, в белых одеждах, словно светлые духи, озаренные месяцем, сидят на диване и — влюблены, влюблены!.. Они не замечают ничего, даже того, что незапертая форточка то и дело предательски хлопает от ночного ветерка. Они не замечают, что этот стук услышала ночевавшая в доме странница — вот с каких пор я их ненавижу! — не заметили влюбленные — где тут что-нибудь замечать, когда часы проходят, как минуты, хотя времяпрепровождение на незаинтересованный глаз удивительно однообразно! — не заметили они, как старуха подошла к самой двери, и опомнились только тогда, когда та взялась за ручку… В любовном состоянии мужчина — дурак. У меня тогда была одна мысль: завтра же, а может быть, и сейчас мы станем пред родителями на колени и попросим благословения. Женщина же тут-то и делается умной, изобретательной, решительной. Моя она бледнела и останавливалась, как вкопанная, когда встречалась с лягушкой, а тут, не успел я моргнуть, отбросила меня в сторону, клубком свернулась за моей спиной, посадила меня на прежнее место и так в меня вцепилась, что долго потом, когда приходилось купаться, меня спрашивали, по какому случаю мне ставили банки… Можете себе представить мое лицо и мою позу в эту минуту! Я старался сделаться как можно шире, чтобы собою загородить ее. Глазами я пожирал дверь, около которой возилась старуха. Дверь, наконец, отворяется. Старуха входит, видит меня, в ярком свете луны, вскрикивает, роняет подсвечник и исчезает…
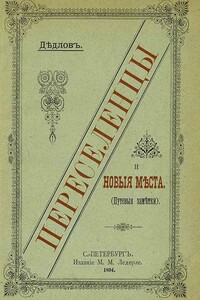
В 1890-е гг. автор служил в переселенческой конторе Оренбурга, где наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. "Переселенцы и новые места. Путевые заметки" были высоко оценены критикой за правдивое изображение бедствий крестьян, страдающих от голода, болезней, нерасторопности и равнодушия чиновников. В то же время предложенная переориентация переселенчества с Востока на Юг и Запад (с целью остановить онемечивание русских земель) вызвала возражения (в частности, у рецензента "Вестника Европы").

Владимир Людвигович Дедлов (настоящая фамилия Кигн) (1856–1908) — публицист, прозаик, критик. Образование Дедлов получил в Москве, сначала в немецкой «петершуле», затем в русской классической гимназии. В 15 лет он увлекся идеями крестьянского социализма и даже организовал пропагандистский кружок. Это увлечение было недолгим и неглубоким, однако Дедлов был исключен из старшего класса гимназии, и ему пришлось завершать курс в ряде частных учебных заведений. «Мученичество» своих школьных лет, с муштрой и схоластикой, он запечатлел в автобиографических очерках «Школьные воспоминания».Издание 1902 года, текст приведен к современной орфографии.
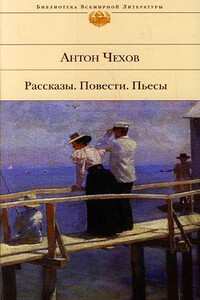
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
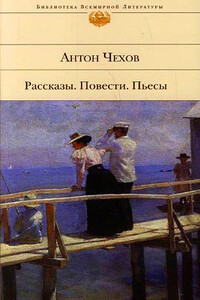
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.