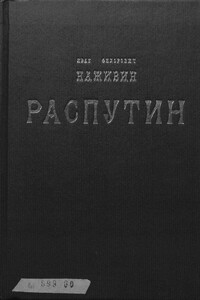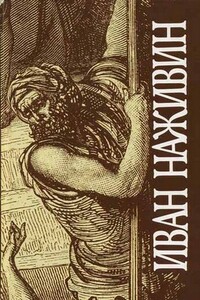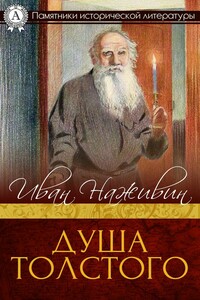— Так в чем же жизнь-то тогда будет? — спросил я, заинтересовавшись. — Напирать не нужно, картузика, как вон Иван говорит, не нужно, бабы не нужно, ничего не нужно, — жить-то чем тогда?..
Странник обернулся ко мне и внимательно посмотрел на меня своими большими, полными какого-то жидкого света глазами, — одними из тех глаз, которые, кажется, видят всегда что-то такое, что скрыто от других. По его бледному исхудалому лицу скользнула легкая, светлая улыбка.
— В чем, тогда жизнь будет? — повторил он, опираясь обеими руками на посох. — Этого словами не скажешь, братик… Это человек чувствовать должон… Ну… вольно тогда будет… легко… Поглядел на небо — чудесно, на реку, скажем, — чудесно, на людей — опять чудесно… В том и жизнь… Лёгко чтоб было… Весело́… Понял?..
Зимогор глубоко прерывисто вздохнул и молча, пытливо посмотрел на странника…
— А ведь, пожалуй… того… и правильно он говорит… — проговорил он задумчиво.
— Иван!.. — крикнули опять с мостика.
— Н-ну, не терпится… — проворчал матрос и ответил: — Здесь!
— Чего ж ты там чешешься?
— Чай, не горит…
— Ну, поговори там еще, черт… — разразился кто-то. — Я тебе поговорю… я тебе покажу…
— Ну, чего ты покажешь?.. Видывал я… — отвечал Иван, лениво вставая. — Вот видишь, я и иду, а ты кричишь… А еще помощник называешься, картуз с позументом носишь… Вроде, быдто, барина… Ну, чего вам?..
— Поди, погаси огонь в первом классе…
— Ладно… Погасим… И без крику погасим… Потому кричать тебе не к лицу — помощником называешься, вроде быдто барина…
Кто-то засмеялся… Помощник выругался…
Иван медленно спустился в темный люк…
— Молод еще, потому… — задумчиво проговорил странник. — А придет время, Господь даст, укротится сердце и раскроются глаза-то у души, и видно все будет… Потому с душой человек, живой… Только до точки настоящей еще не дошел…
И, помолчав немного, он вздохнул и проговорил как-то особенно мягко и ласково:
— Что ж, вздремнуть рай маленько, до солнышка?.. Ишь ночка-то прошла, и не видали…
Он снял свою скуфеечку, набожно перекрестился и, положив свою котомку в головы, лег на пол, около трубы, лег как-то особенно хорошо, уютно, — чувствовалось ясно, что на душе у него теперь «чудесно»…
Звезды за кормой погасли… Луна, побледневшая и томная, устало спускается за далекий сосновый бор. На востоке уже забелелось… Легкий, едва заметный парок скользит по зеркальной поверхности реки и тает в тихом посвежевшем воздухе, напоенном ароматом свежескошенной травы.
Какие-то серые холодные тоны легли на реку, на небо, на прибрежные леса и луга, — рассвет скоро…
Пароход громко и протяжно заревел. Могучий звук тяжело ударился несколько раз о хмурые берега и умер где-то за лесом… Вдали слабо светились бледные огоньки: это была «Черная Гряда»…
Вдали заливался малиновым звоном колокольчик… Все ближе и ближе он, — значит, к училищу едут. Ребята заволновались, вытягивая шеи, чтобы заглянуть в окна. Послышался возбужденный шепот.
— Директор… Инспектор… Ишь ты! Он недавно был, не приедет… Не приедет! Тебя спрашивать станет!
— Ну, что еще не сидится?.. — окрикнул их Сергей Иванович, а сам, одергивая свой пиджачок и поправляя невольным жестом волосы, думал: «Неужели, в самом деле, директор?..»
И его сердце неприятно билось: в нем, как во всяком «маленьком человеке» деревни, звон колокольчика возбуждал робость, опасливые думы и чувства, очень смутные, неопределенные, а оттого еще более тяжелые.
В это время колокольчик звякнул в последний раз и замер на высокой жалобной ноте: тройка стала у училища. Внизу послышался топот тяжелых ног, — то пробежал сторож Матвей встретить приезжего.
Учитель, еще раз прикрикнув на волновавшихся ребят и всячески стараясь скрыть охватившее его самого волнение, строгим голосом продолжал урок, делая большие паузы между фразами, чтобы послушать, что происходит внизу.
«Не лучше ли выйти?.. Не обиделся бы… — мелькнуло у него в голове, но тотчас же он прибавил со злостью: — Ну его к черту… Скажу, что не слыхал…»
Дверь в класс отворилась и на пороге появился высокий, плотный мужчина в черном, не первой молодости, сюртуке и в рубашке «фантазия». Во всей фигуре гостя, в самой позе его сказывалось сознание своей силы, полная уверенность в себе, безграничное самодовольство. Казалось, что даже большой нос его, его заплывшие глаза, его упрямый, крупный рот, его козлиная русая бородка, казалось, все это, даже взятое в отдельности, веско заявляло о своей гордости, о своем счастье принадлежать такому важному, хорошему, умному человеку. Мало того, даже синие помпоны его «фантазии», и те были преисполнены самодовольства и то и дело с достоинством вздрагивали, точно приглашая всех полюбоваться ими и их несравненным владельцем.
У учителя сразу отлегло от сердца.
— Встаньте! — как-то чересчур поспешно, громко и торжественно провозгласил он.
Дети зашумели, вставая.
— Здравствуйте, здравствуйте, ребята… Ну, садитесь… Здравствуй, Сергей Иванович… Как Бог милует?..
— Вашими молитвами… Пожалуйте…
— Ну, нашими молитвами долго не проживешь… Э-хе-хе… — вздохнул гость, садясь на предложенный учителем стул. — А у вас тут тепло…