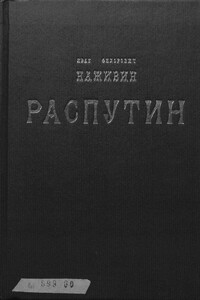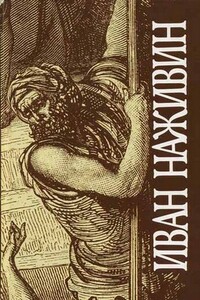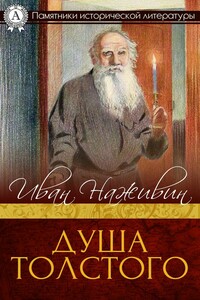Прихожу это к себе, в свою конуру, на барку, — нет, силушки моей нету! Лучше голову о стену, расколотить, чем так терпеть… Куда ни поглядишь, все либо глаза ее видишь — смеются, подлые! — либо плечо голое, грудь, руку белую да полную… Ни о сне, ни о еде и помину нет, просто как дурманом кто опоил… Промаячил я день кое-как, ночь опять пришла… Нет, не могу… Отплачу хоть чертовке за издевку ее… А в душе муть — никак я в толк не возьму зол ли я уж очень на нее, люба ли она очень мне стала; не разберу и шабаш, а тянет, просто как на буксире… Ну, прямо сказать, пропал человек…
Чуть стемнело, я в сад, залег в кусты и лежу, жду. Вижу, вошла к себе в комнату со свечей, занавес спустила. На селе, слышу, пробило на колокольне сколько-то… Огонь у нее потух.
Иду… А сердце так и ходит, того гляди, разорвется… Влез на подоконник, спрыгнул в комнату.
— Опять? — слышу голос.
— Опять… — говорю.
Зашевелилось что-то.
— Бей, — говорю, — один конец…
— Что так?
— А так уж, — говорю.
Зажгла огонь.
— Что тебе надо?
И как увидал я ее, так во мне опять все и заполыхало.
— Тебя, — говорю, — надо, — вот что!..
Гляжу на нее, и сам не знаю, что со мной делается: и избил бы ее, истерзал бы всю, и замиловал бы до смерти… А то вот словно сел бы у ее ног да и давай бы реветь… И избил бы всю…
— Душу ты из меня всю вынула, ведьма, — говорю, а сам, как лист осиновый, дрожу. — Черт, говорю, ты, а не баба. Ну, бей, говорю. Все равно пропадать… Только не тяни, говорю, а то истерзаю я тебя, как не знаю что…
Поднялась на локоть, смотрит на меня. Головой качает…
— Нет, не растерзать тебе меня, — смеется. — Силенки у тебя нет… Вот, во всем доме только старик один, да две бабы, да я… а боишься… На, вот и это возьми. И без этого ничего ты мне не сделаешь…
Протягивает мне пистолетик свой, а сама усмехается.
— Ой, говорю, не смейся!.. Ой, не шути!..
А сам дрожу.
— Не боюсь я тебя…
Ка-ак я брошусь на нее, как вцеплюсь ей в плечи!.. Голова закружилась, пол под ногами ходуном пошел… Трясу я это ее, впился, как зверь, трясу, а она хоть бы слово, — смеется, черт!.. И вдруг мне жаль ее стало, — просто до слез. Пустил я ее и так мне тошно стало, хоть в петлю… А она лежит, такая белая, пригожая… И припал я к губам ее да так и впился, словно всю душу ее впить в себя хотел…
Оттолкнула она меня эдак легонько, села.
— Ну, слушай, — говорит, и голос эдакий сурьезный стал. — Любишь ты меня?
— Люблю, говорю.
— Исполнишь, — говорит, — что я попрошу?
— Все исполню, говорю.
— Ну, ладно, — говорит, — эта ночь твоя… А завтра, чтобы тебя здесь не было… Понял?
Каково загнула? А? У меня вся душа так на дыбы и встала. Как так, чтобы не было?.. Да ни за какие!..
— Слушай, — говорит, — больше делать нам нечего. Полюбила я тебя, скрывать не буду, но только вместе нам не жить… Потому не пара мы, не одного поля ягоды… И уходи теперь, потому после еще тяжелее будет.
Как ни вертись, вижу, верно говорит.
— Ну, понял? — говорит.
— Понял…
— Согласен?..
Эх, здорово трудно было, а ничего не поделаешь.
— Согласен, говорю.
— Ну, я тебе верю… — говорит. — Иди сюда…
И обвила меня руками.
— Сильный ты, — шепчет. — И люблю я тебя за это… У нас таких нет…
Ну, очнулась на зорьке да и говорит:
— Иди теперь, пора… Только помни, что обещал…
Так во все глаза и глядит на меня, — вот-вот заплачет… Только нет, выдержала… А видно, что тяжко… А зорька за садом горит, — вот-вот солнце встанет…
— Иди, говорит…
Поглядел я на нее в останный раз… Прижалась ко мне, обнимает… Схватил, на столике лежало, колечко ее да кы-ык в окно ахну, кы-ык стегану!..
Прилетел в село… Пароход бежит… Я на него… Дуй!.. Чеши, черт тебя побери совсем!.. Полный!..
Припалил в Нижний и напился пьяным до полусмерти. Проспался — еще, а потом еще…
Ну, дня через три, как выпустил я пары-то немного, попал я на Самолетскую пристань пароходы выгружать, — потому без гроша остался… Злой, как черт… Тянет меня опять к ней, просто беда, чую, что не вытерплю… Ну, раз утром грузим мы это пароход верховой… Отгрузились, свисток… Стою я это, пот вытираю, глядь на палубе — она!.. А пароход уж отвалил, колесами лопочет… Так во мне все и затрепыхалось… Увидала меня, вздрогнула, приглядывается — потому в лохмотьях весь и грязный, как черт болотный. Узнала… Белая вся стала… Головой эдак легонько наклонилась… А я столб столбом, как жена Лотова, смотрю на нее… А пароход все дальше да дальше… И… и… эх, да что уж…
Помолчав мгновенье, видимо, взволнованный, зимогор продолжал тихо, точно размышляя:
— Сперва думал, за мной поехала… Дескать, не выдержало сердце… А потом понял, что от меня… Боялась, что слово свое не исполню… И уехала… Ну, и опять закрутил я, и долго крутил… Потом маленько полегчало мне, а потом и совсем все прошло… А только и теперь вспомнишь, так засосет… Вот это баба!.. Эта, брат, бякать не будет… Эта своей дорогой идет: никаких баканов ей не нужно и на всякий перекат наплевать… И про соломинки-то говорила, так это так только… сумленье одно… Эти не только чрез соломинку, чрез каменную стену перешагнут, коли видят, что перешагнуть нужно.
— А видал ты ее после? — спросил Василий, находившийся, очевидно, под сильным впечатлением рассказа.