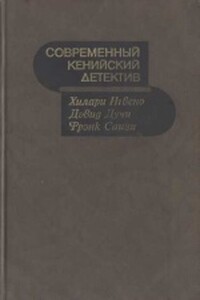«Рассказы» г. Арцыбашева - [6]
Товарищи доктора, слѣдователь и становой, хладнокровнѣе относятся къ случившемуся. Для нихъ весь вопросъ въ томъ, какъ скрыть все, а изворотливый, бывавшій въ передѣлкахъ, становой сейчасъ же находитъ и выходъ. "Я сейчасъ узналъ, что двое мужиковъ видѣли, какъ сторожъ Матвѣй Похвальный выходилъ ночью изъ школы… А? Вотъ и спасеніе!.. Изнасилованія не будетъ, будетъ грабежъ… грабежъ понятнѣе и не такъ громокъ!.. Понимаете?.. Сторожа сбить съ толку не трудно, я берусь"… Дѣло налаживается хорошо, но тутъ-то и сказывается сила ужаса. Молчаливая масса, тоже видавшая всякіе виды, не выдерживаетъ и вмѣшивается. Ее поражаетъ и двойное преступленіе, и его безнаказанность. Впечатлѣніе ужаса растетъ и распространяется. "Еще съ вечера невидимая и неслышимая, ползущая тайно изъ устъ въ уста, пошла во всѣ стороны тяжелая молва о злодѣяніи. Было совсѣмъ тихо, но въ этой мертвой тишинѣ отчаянный крикъ, казалось летѣлъ отъ человѣка къ человѣку, и въ душахъ становилось больно, страшно, и тяжелое, кошмарное, рождалось возмущеніе. Оно таилось въ глубинѣ и какъ-будто уходило все глубже и глубже, но вдругъ неизвѣстно никому, какъ и гдѣ, точно крикнулъ въ толпѣ какой-то паническій голосъ, оно вырвалось наружу, вспыхнуло и покатилось изъ края въ край. На разсвѣтѣ рабочіе на бумагопрядильной фабрикѣ и на ближайшей желѣзной дорогѣ побросали работы и черными кучками поползли черезъ поля въ деревню. – Сами убили да сами и судъ вели, – заговорилъ тяжелый глухой голосъ, и въ его шопотѣ стало наростать что-то огромное, общее грозное, какъ надвигающаяся туча. Оно росло съ сокрушительной силой и стремительной быстротой. И въ своемъ стихійномъ движеніи увлекало за собой все потаенное, задавленное, вѣковую обиду. Казалось, жизнь маленькой замученной женщины, въ дѣтскихъ черныхъ чулкахъ съ наивными голубыми подвязками, воплотила вдругъ въ себя что-то общее, свѣтлое, молодое, милое, безконечно и безнадежно задавленное и убитое. Не хотѣлось вѣрить, не хотѣлось жить, и ноги сами собой шли въ ту сторону, какъ на зовъ погибающаго, голоса сами собой принимали грозное и отчаянное выраженіе"… А дальше подавленіе, усмиреніе, вся обычная житейско-русская обстановка, превосходно выписанная авторомъ, съ заключительнымъ аккордомъ: "Въ сараѣ, при волости, на помостѣ лежали рядами неподвижные мертвые люди и смотрѣли вверхъ остановившимися навсегда бѣлыми глазами, въ которыхъ тускло блестѣлъ вопрошающій и безысходный ужасъ"…
Этотъ прекрасный, на рѣдкость выдержанный разсказъ выдвигаетъ идею ужаса въ ея чистомъ видѣ, въ какомъ въ жизни она не такъ-то часто встрѣчается. Правда, жизнь послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ отчасти пріучила насъ и къ такимъ картинамъ… Но для автора важнѣе, какъ показываетъ нашъ разборъ его книги, обыденная жизнь, гдѣ изъ мелочей слагаются трагическія исторіи, о которыхъ онъ повѣствуетъ съ такимъ талантомъ.
А жизнь сама по себѣ такъ прекрасна. Таковъ его выводъ. Если зло и насиліе торжествуютъ надъ добромъ и радостью, то вовсе не потому, что это неизбѣжно, стихійно, а потому, что мы придаемъ слишкомъ большое значеніе мелочамъ, подчиняемся имъ безъ борьбы и отравляемъ ими источникъ жизни – нашу свободную, гордую и чистую личность. Въ ней заложены задатки ко всему высокому и прекрасному, и нужно бороться со всѣмъ, что ведетъ къ подавленію, а не къ развитію личности. Не надо компромиссовъ съ совѣстью, довольно лжи и лицемѣрія, отъ которыхъ мы задыхаемся, не замѣчая, какъ понемногу глохнутъ прекрасные зачатки, вложенные въ насъ природою, и душа засоряется всяческимъ житейскимъ соромъ до того, что уже ничто почти не въ силахъ ее разбудить…
Изъ приведенныхъ многочисленныхъ выдержекъ читатели могутъ убѣдиться, насколько оригинально разрабатываетъ свои всегда значительныя темы авторъ, никогда не довольствуясь поверхностнымъ описаніемъ, а стараясь, какъ истинный художникъ-психологъ, проникнутъ въ глубину душевныхъ движеній своихъ героевъ. Его манера напоминаетъ нѣсколько Л. И. Толстого – тщательностью анализа и углубленностью. Отчасти это сказывается даже во внѣшней формѣ его фразъ, въ видѣ нагроможденности "что" и вводныхъ предложеній, съ цѣлью до мельчайшихъ подробностей выяснить душевный процессъ. Тѣмъ не менѣе, авторъ остается вездѣ оригиналенъ и самостоятеленъ въ обработкѣ темы и въ постановкѣ вопросовъ. Вліяніе Толстого сказывается скорѣе въ направленіи художественной пытливости г. Арцыбашева, котораго захватываютъ вездѣ важныя, вѣчныя стороны жизни, вопросы не временные, текущіе, злободневные, а всегда способные волновать сердца людей. Даже въ послѣднемъ разсказѣ "Ужасъ", г. Арбашевъ выдвигаетъ не злоупотребленіе бюрократической власти, а силу ужаса, его стихійность и общественное значеніе. Сильнѣе чувствуется вліяніе Толстого въ болѣе раннихъ произведеніяхъ г. Арцыбашева, какъ "Паша Тумановъ" и "Кровь", написанныхъ почти одновременно (хотя "Кровь" и была напечатана только въ 1904 г., но въ первой редакціи "Диссонансъ" этотъ разсказъ былъ намъ извѣстенъ одновременно съ "Пашей Тумановымъ" еще весною 1902 г.). Постепенно форма у г. Арцыбашева освобождается отъ пріемовъ Толстого, и въ послѣднихъ произведеніяхъ "Бунтъ!", "Жена" и "Ужасъ" это вліяніе почти незамѣтно.
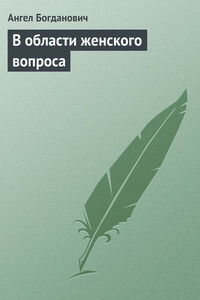
«Женскій вопросъ давно уже утратилъ ту остроту, съ которой онъ трактовался нѣкогда обѣими заинтересованными сторонами, но что онъ далеко не сошелъ со сцены, показываетъ художественная литература. Въ будничномъ строѣ жизни, когда часъ за часомъ уноситъ частицу бытія незамѣтно, но неумолимо и безвозвратно, мы какъ-то не видимъ за примелькавшимися явленіями, сколько въ нихъ таится страданія, которое поглощаетъ все лучшее, свѣтлое, жизнерадостное въ жизни цѣлой половины человѣческаго рода, и только художники отъ времени до времени вскрываютъ намъ тотъ или иной уголокъ женской души, чтобы показать, что не все здѣсь обстоитъ благополучно, что многое, сдѣланное и достигнутое въ этой области, далеко еще не рѣшаетъ вопроса, и женская личность еще не стоитъ на той высотѣ, которой она въ правѣ себѣ требовать, чтобы чувствовать себя не только женщиной, но и человѣческой личностью, прежде всего.
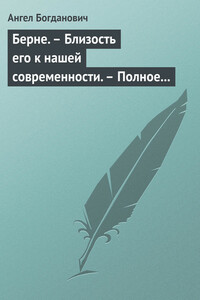
«Среди европейскихъ писателей трудно найти другого, который былъ бы такъ близокъ русской современной литературѣ, какъ Людвигъ Берне. Не смотря на шестьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда Берне писалъ свои жгучія статьи противъ Менцеля и цѣлой плеяды нѣмецкихъ мракобѣсовъ, его произведенія сохраняютъ для насъ свѣжесть современности и жизненность, какъ будто они написаны только вчера. Его яркій талантъ и страстность, проникающая все имъ написанное…»Произведение дается в дореформенном алфавите.
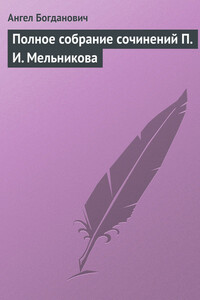
«Среди бытописателей русской жизни одну изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ представляетъ Мельниковъ, псевдонимъ Печерскій, извѣстность котораго въ большой публикѣ распространили его послѣднія два крупныхъ произведенія "Въ лѣсахъ" и "На горахъ". Въ 70-хъ годахъ, когда эти бытовые романы печатались въ "Рус. Вѣстникѣ", имя Мельникова ставили на ряду съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, а литературная партія, къ которой принадлежали Катковъ и Леонтьевъ, превозносила его превыше пирамидъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Прошло почти два месяца, как начала… действовать, хотел я сказать, государственная дума, но жизнь, текущая ужасная жизнь немедленно остановила меня: „не действовать, а – говорить“.И мне стало стыдно за себя и грустно за думу…».
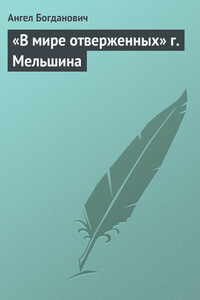
«Больше тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появленіе «Записокъ изъ Мертваго дома» вызвало небывалую сенсацію въ литературѣ и среди читателей. Это было своего рода откровеніе, новый міръ, казалось, раскрылся предъ изумленной интеллигенціей, міръ, совсѣмъ особенный, странный въ своей таинственности, полный ужаса, но не лишенный своеобразной обаятельности…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

Последние произведения г-на Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «Любовь». – Пессимизм автора. – Безысходно-мрачное настроение рассказов. – Субъективизм, преобладающий в них.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.