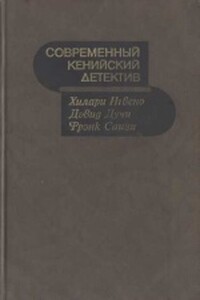«Рассказы» г. Арцыбашева - [2]
Оставшись одинъ, Паша задумался надъ этой, повидимому, нехитрой философіей старика, ихотя не могъ понять словъ его въ томъ глубокомъ смыслѣ, который вкладывалъ въ свои спутанныя рѣчи старый рыболовъ, но ему все-таки стало легче". И солнце, и рѣка, и птицы снова засверкали для него, запѣли и заставили на минуту забыть и провалъ на экзаменѣ, и его послѣдствія. Вмѣстѣ съ нимъ становится легче и читателю при мысли, что, и въ самомъ дѣлѣ, не одинъ "провалъ", бывшій въ его жизни, куда легче можно бы перенести, если бы не тѣ тысячи нитей всякихъ пустяковъ, которыми мы сами себя опутали и изъ-за которыхъ каждый изъ насъ "свѣту божьяго солнца не радъ". Совлечь съ себя эту паутину, порвать съ условностями, дать выходъ своему "я" на волю, – "и сейчасъ же сводъ неба раздвинулся бы, вода стала бы прозрачнѣе и плескала бы звучнѣе, струйки весело зазвенѣли бы и заговорили въ гладкомъ пескѣ, солнце стало бы ярче и теплѣе и послышалось бы много новыхъ звуковъ, живыхъ и смѣлыхъ, которыхъ онъ до этого не замѣчалъ".
Но Паша, какъ и тысячи тысячъ изъ насъ, не въ силахъ совлечь съ себя ветхаго человѣка, въ котораго его успѣли преобразить и семья, и шкода, и погибаетъ жалкимъ образомъ, возбуждая справедливое и искреннее сожалѣніе въ секретарѣ полицеймейстера, къ которому онъ явился послѣ преступленія: "Бѣдный мальчикъ!.."
Да, истинно бѣдный, но, право, не бѣднѣе тѣхъ, что "вызубрили" все требуемое для "тепленькаго мѣстечка", которое исковеркало имъ душу, изсушило сердце и превратило въ живыхъ мертвецовъ, безъ воли, безъ желанія и проблеска радости.
Но – это между прочимъ. Авторъ въ дальнѣйшихъ разсказахъ даетъ намъ новые образцы разбитыхъ безъ вини жизней. Таковъ конокрадъ Купріянъ, такова взбунтовавшаяся Саша (повѣсть "Бунтъ"), таковъ прапорщикъ Гололобовъ, и докторъ ("Смѣхъ"), и другіе герои разсказовъ, которые не могутъ уже, не въ силахъ выбиться для настоящей жизни изъ узилища жизни дѣланной, условной и гнусной по своей дикости и безсмысленности.
Отсюда трагедія каждаго изъ нихъ. Все, что въ нихъ есть человѣческаго, прекраснаго и добраго, не находитъ примѣненія въ жизни, выпавшей на ихъ долю. Напротивъ, все извращенное, навязанное внѣшними силами, все чуждое имъ по существу, по складу ихъ личности, торжествуетъ. Въ борьбѣ ихъ скрытой сущности съ этимъ внѣшнимъ ихъ существомъ они и погибаютъ, какъ "бѣдный мальчикъ" Паша, котораго уже послѣ преступленія пожалѣлъ секретарь полиціи, но никого не нашлось, кто пожалѣлъ бы его до преступленія, кромѣ старика-рыболова.
Вотъ Купріянъ-конокрадъ. Онъ "съ измальства мыкается… Ну, двѣнадцати годовъ съ батькой первую лошадь свели… У насъ всѣ такъ… Еще дѣдъ промышлялъ, потому нѣтъ никакой возможности, земли мало, да и ту хоть брось!" Но онъ – коренной земледѣлецъ, земля его тянетъ: "такъ бы и взрылъ всю землю, и чтобъ зеленя, зеленя пошли кругомъ". Ему на мужиковъ "завидно". Онъ сильный, ловкій и сердечный человѣкъ, какъ и всѣ сильные, простые и здоровые люди. Онъ сходится по любви съ "солдаткой", жалѣя ея "сиротство", и когда приходитъ со службы-мужъ, не хочетъ ее покинуть, втайнѣ надѣясь спасти ее и сына отъ "смертнаго" боя мужа. Эта надежда и губитъ его: крестьяне ловятъ его на свиданіи съ любимой женщиной и, какъ конокрада, убиваютъ.
Трагическая красота этого разсказа еще усиливается выясненіемъ такой же пришибленности и подавленности личности и остальныхъ людей, противъ которыхъ выступаетъ Купріянъ. Соперникъ – мужъ, по существу вовсе не звѣрь, онъ такой же крестьянинъ, тяготѣющій къ землѣ, какъ и Купріянъ. Въ солдатчинѣ онъ не забылъ ни жены, ни дома, и хотя "за пять лѣтъ солдатчины Егоръ Шибаевъ совершенно отвыкъ отъ жены, но, тѣмъ не менѣе, хорошо помнилъ, что въ деревнѣ у него осталась жена, и хотя самъ, какъ всякій солдатъ, жилъ съ другими женщинами, онъ твердо вѣрилъ въ несокрушимость своихъ правъ надъ женой… Вспоминать о женѣ ему было всегда пріятно не потому, чтобы онъ ее любилъ, а потому, что онъ чувствовалъ себя солиднѣе, имѣя жену и домъ… Въ городѣ и солдатчинѣ, онъ совершенно забылъ деревню и его не тянуло туда, но когда поѣздъ двинулся и понесся по чернѣющимъ распаханнымъ полямъ съ кучками гнилого навоза и черными грачами, разгуливающими по межамъ, хорошее, радостное и оживленное чувство пробудилося у него въ душѣ, и онъ уже по цѣлымъ часамъ глядѣлъ въ окно вагона на безконечныя сѣрыя равнины, затянутыя сѣрой завѣсой дождя и сливающіяся на горизонтѣ съ такимъ же сѣрымъ небомъ. Все то грязное, скверное и безтолковое, что насадила ему въ душу безсмысленная, непонятная его мужицкому уму и сердцу, солдатская жизнь, разомъ исчезло, уступивъ мѣсто сначала безотчетно радостному настроенію человѣка, приближающагося послѣ долгаго отсутствія къ роднымъ мѣстамъ, а потомъ и дѣловымъ соображеніямъ хозяина-мужика, проснувшагося въ немъ, несмотря на колоссальную величину той мерзости, разврата и лѣни, которая нашла на него въ казармахъ". Его мечты о жизни по хорошему сразу наталкиваются на неприглядную дѣйствительность: жена "связалась", да еще съ конокрадомъ. Дальнѣйшее естественно вытекаеть изъ этого столкновенія вѣковыхъ взглядовъ на жену, какъ на собственность, съ разбитыми мечтами о хорошей жизни и еще съ чѣмъ-то, внезапно съ острой болью пробудившемся въ немъ. Избивъ жену до полусмерти, "онъ опустилъ голову на локоть и зарыдалъ, чувствуя, что испорчено навсегда и еще что-то хорошее, чего онъ и самъ не сознавалъ", и что можно назвать личнымъ достоинствомъ, что придавало ему въ собственныхъ глазахъ вѣсъ и значеніе – уваженіе къ себѣ не какъ къ солдату, унтеръ-офицеру, не къ мужику-хозяину, а къ человѣку, мужу и отцу. Забитая личность проснулась и въ немъ, но уже поздно и безъ пользы для него и для окружающихъ.
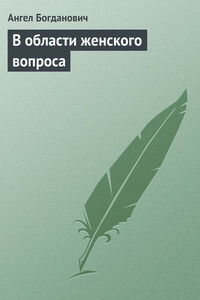
«Женскій вопросъ давно уже утратилъ ту остроту, съ которой онъ трактовался нѣкогда обѣими заинтересованными сторонами, но что онъ далеко не сошелъ со сцены, показываетъ художественная литература. Въ будничномъ строѣ жизни, когда часъ за часомъ уноситъ частицу бытія незамѣтно, но неумолимо и безвозвратно, мы какъ-то не видимъ за примелькавшимися явленіями, сколько въ нихъ таится страданія, которое поглощаетъ все лучшее, свѣтлое, жизнерадостное въ жизни цѣлой половины человѣческаго рода, и только художники отъ времени до времени вскрываютъ намъ тотъ или иной уголокъ женской души, чтобы показать, что не все здѣсь обстоитъ благополучно, что многое, сдѣланное и достигнутое въ этой области, далеко еще не рѣшаетъ вопроса, и женская личность еще не стоитъ на той высотѣ, которой она въ правѣ себѣ требовать, чтобы чувствовать себя не только женщиной, но и человѣческой личностью, прежде всего.
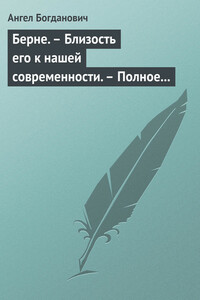
«Среди европейскихъ писателей трудно найти другого, который былъ бы такъ близокъ русской современной литературѣ, какъ Людвигъ Берне. Не смотря на шестьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда Берне писалъ свои жгучія статьи противъ Менцеля и цѣлой плеяды нѣмецкихъ мракобѣсовъ, его произведенія сохраняютъ для насъ свѣжесть современности и жизненность, какъ будто они написаны только вчера. Его яркій талантъ и страстность, проникающая все имъ написанное…»Произведение дается в дореформенном алфавите.
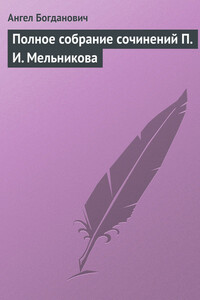
«Среди бытописателей русской жизни одну изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ представляетъ Мельниковъ, псевдонимъ Печерскій, извѣстность котораго въ большой публикѣ распространили его послѣднія два крупныхъ произведенія "Въ лѣсахъ" и "На горахъ". Въ 70-хъ годахъ, когда эти бытовые романы печатались въ "Рус. Вѣстникѣ", имя Мельникова ставили на ряду съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, а литературная партія, къ которой принадлежали Катковъ и Леонтьевъ, превозносила его превыше пирамидъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Прошло почти два месяца, как начала… действовать, хотел я сказать, государственная дума, но жизнь, текущая ужасная жизнь немедленно остановила меня: „не действовать, а – говорить“.И мне стало стыдно за себя и грустно за думу…».
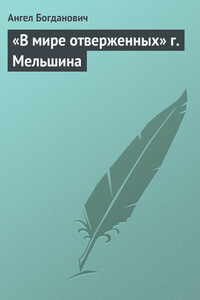
«Больше тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появленіе «Записокъ изъ Мертваго дома» вызвало небывалую сенсацію въ литературѣ и среди читателей. Это было своего рода откровеніе, новый міръ, казалось, раскрылся предъ изумленной интеллигенціей, міръ, совсѣмъ особенный, странный въ своей таинственности, полный ужаса, но не лишенный своеобразной обаятельности…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

Последние произведения г-на Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «Любовь». – Пессимизм автора. – Безысходно-мрачное настроение рассказов. – Субъективизм, преобладающий в них.
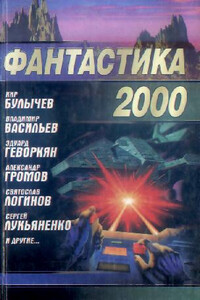
Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.