«Рассказы» г. Арцыбашева - [3]
Трагедія проснувшейся личности еще ярче очерчена въ лучшемъ, по нашему мнѣнію, произведенія г. Арцыбашева, въ повѣсти "Бунтъ". Это дѣйствительно бунтъ "на днѣ". Саша одна изъ обычныхъ жертвъ "общественнаго темперамента". Какъ она ни забита и унижена, но въ ней еще теплится искорка личности, не желающей примириться съ невозможностью выбиться, отстоять себя, и она взбунтовалась противъ жизни. Она молода, красива, здорова, и когда ея подруга погибаетъ отъ обычной, въ ихъ положеніи "случайности", Саша не выдерживаетъ. "И всегда-то такъ" – эти страшныя олова подымаютъ со дна души всѣ силы личности, жаждущей жить, бороться, отстаивать свое "я". Весь ужасъ ея положенія освѣщается какъ молніей одной ясной, до боли яркой мыслью, что она, Саша, не человѣкъ, а вещь, хуже вещи… "Мы что тутъ?.. Такъ… падаль одна! Живемъ, пока сгніемъ… А другіе же живутъ… свѣту радуются"… Разъ проснувшаяся личность уже не можетъ терпѣть прежнее, Саша иди должна покончить съ собой, какъ ея подруга, иди уйти. "Куда? Тамъ видно будетъ. Уйти бы только!.." Но надежда на новую лучшую жизнь не оправдалась. Тѣ тысячи нитей общественныхъ условій, въѣвшихся въ душу каждаго, опутывающихъ насъ какъ паутиной, невидимой и тѣмъ болѣе крѣпкой, не даютъ ей выбиться со дна, развернуть своихъ силъ, проявить то прекрасное, человѣчное, что есть въ ней, и тянутъ ее назадъ. Она хочетъ жить, "свѣту радоваться", а ее приспособляютъ къ уходу за больными, приковываютъ къ разлагающейся отъ рака несчастной больной, требуютъ терпѣнія, смиренія, покорности. Но и противъ этого она не возстала бы, если бы видѣла цѣль впереди, хотя какое-нибудь утѣшеніе въ сознаніи, что это ее дѣдаетъ снова человѣкомъ, такимъ какъ всѣ. Она любитъ, впервые любитъ настоящей чистой любовью, для которой не одно ея тѣло нужно, но и душа, какъ она думаетъ и вѣритъ. И въ этомъ чувствѣ она получаетъ самый важный и чувствительный для нея ударъ. Студентъ, который, поддавшись порыву, помогаетъ ей выбраться на поверхность, не можетъ спасти ее, потому что все противъ него – и его семья, и онъ самъ, смутно понимающій, что ему не отдѣлаться отъ особаго взгляда на "этихъ женщинъ". Саша снова "бунтуетъ", на этотъ разъ безповоротно, противъ всѣхъ. "Чортъ съ вами со всѣми!" и кидается, какъ въ омутъ "на дно", откуда порывъ вынесъ ее было на поверхность на одну только минуту, чтобы затѣмъ кинуть туда уже навсегда. Этотъ двойной бунтъ личности, по истинѣ, настоящая пощечина лицемѣрному обществу, въ которомъ все приспособлено для гибели души и нѣтъ средствъ для помощи, для спасенія личности, которой въ борьбѣ остается разсчитывать только на себя. У кого не хватаетъ силъ, тотъ долженъ тонуть какъ Паша Тумановъ, Купріянъ, Саша и тысячи имъ подобныхъ. Таковъ безотрадный выводъ, самъ собою вытекающій изъ исторіи ихъ разбитыхъ существованій.
А жизнь тѣмъ не менѣе хороша! Вотъ что, какъ призывъ повторяется въ каждомъ почти изъ разсказовъ г. Арцыбашева. Она можетъ быть, она должна быть прекрасна, только не надо портить ее самимъ всякимъ вздоромъ, засоряющимъ душу, умъ, сердце. Авторъ страстно любитъ жизнь, его настроеніе полно жизнерадостности, и тѣмъ трагичнѣе поэтому его печальныя повѣсти о томъ, какъ люди сами дико, безсмысленно портятъ себѣ и другимъ эту чудную жизнь, только разъ каждому данную никогда уже не повторяющуюся.
"Она выходила ко мнѣ на свиданіе черезъ вишневый садъ, по насыпи, въ тоненькую и бѣлую березовую рощицу. Еще издали была видна ея высокая и гибкая фигура и мягкимъ силуэтомъ вырѣзывалась въ безконечно широкомъ и глубокомъ небѣ, усѣянномъ золотыми, голубыми и красными звѣздочками и далеко облитомъ ровнымъ холоднымъ свѣтомъ луны.
"За насыпью была густая, черная и жуткая тѣнь, въ которой неподвижно и чутко стояли тоненькіе стволы березокъ и молчаливо тянулась отъ земли высокая влажная трава. Въ этой рощѣ я ждалъ ее, и мнѣ было жутко и весело въ прозрачной голубой тѣни. Когда въ небѣ, высоко надо мною, вырисовывался знакомый силуэтъ, я карабкался навстрѣчу, скользя по мокрой травѣ, подавалъ ей руку, и мы оба, точно падая, стремительно сбѣгали внизъ, съ силой разгоняя густой воздухъ, развѣвавшій волосы и шумѣвшій въ ушахъ, влетали въ сумракъ и тишину рощи и вдругъ сразу замирали, по колѣни въ травѣ, сильно и смущенно прижимаясь всѣмъ тѣломъ другъ къ другу.
"Мы почти не говорили, и намъ не хотѣлось говорить. Было тихо, пахло страннымъ, таинственно непонятнымъ ароматомъ, отъ котораго кружилась голова, и все исчезало изъ глазъ и сознанія, кромѣ жгучаго и тревожнаго наслажденія. Сквозь тонкую, сухую матерію я чувствовалъ, какъ чуть-чуть дрожало и томилось, наслаждаясь, молодое, сильное упругое и нѣжное тѣло, какъ подавалась и ускользала изъ моихъ влажныхъ пальцевъ круглая и мягкая грудь. Близко-близко отъ своего лица я видѣлъ въ темнотѣ полузакрытые, какъ будто ничего не говорящіе, слабо и таинственно поблескивающіе изъ-подъ рѣсницъ глаза. Трава была мокрая и брызгала холодной, пріятной росой на голое тѣло, странно теплѣвшее въ прохладномъ и влажномъ воздухѣ. Какъ будто на всю рощу разносились торжествующіе удары нашихъ сердецъ, но намъ казалось, что во всемъ необъятно-громадномъ мірѣ нѣтъ никого, кромѣ насъ, и никто не можетъ притти помѣшать намъ среди этихъ сдвинувшихся березокъ, ночныхъ тѣней, влажной травы и одуряющаго запаха сырого, глубокаго лѣса. Время шло гдѣ-то внѣ, и все было наполнено однимъ жгучимъ, неизъяснимо прекраснымъ, могучимъ и смѣлымъ наслажденіемъ жизнью".
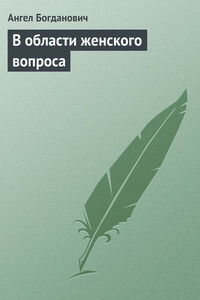
«Женскій вопросъ давно уже утратилъ ту остроту, съ которой онъ трактовался нѣкогда обѣими заинтересованными сторонами, но что онъ далеко не сошелъ со сцены, показываетъ художественная литература. Въ будничномъ строѣ жизни, когда часъ за часомъ уноситъ частицу бытія незамѣтно, но неумолимо и безвозвратно, мы какъ-то не видимъ за примелькавшимися явленіями, сколько въ нихъ таится страданія, которое поглощаетъ все лучшее, свѣтлое, жизнерадостное въ жизни цѣлой половины человѣческаго рода, и только художники отъ времени до времени вскрываютъ намъ тотъ или иной уголокъ женской души, чтобы показать, что не все здѣсь обстоитъ благополучно, что многое, сдѣланное и достигнутое въ этой области, далеко еще не рѣшаетъ вопроса, и женская личность еще не стоитъ на той высотѣ, которой она въ правѣ себѣ требовать, чтобы чувствовать себя не только женщиной, но и человѣческой личностью, прежде всего.
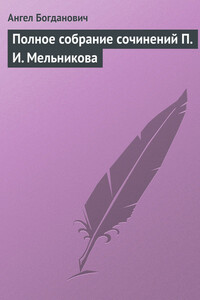
«Среди бытописателей русской жизни одну изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ представляетъ Мельниковъ, псевдонимъ Печерскій, извѣстность котораго въ большой публикѣ распространили его послѣднія два крупныхъ произведенія "Въ лѣсахъ" и "На горахъ". Въ 70-хъ годахъ, когда эти бытовые романы печатались въ "Рус. Вѣстникѣ", имя Мельникова ставили на ряду съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, а литературная партія, къ которой принадлежали Катковъ и Леонтьевъ, превозносила его превыше пирамидъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.
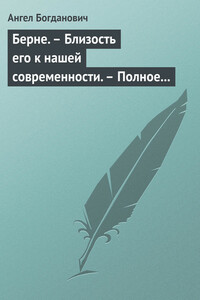
«Среди европейскихъ писателей трудно найти другого, который былъ бы такъ близокъ русской современной литературѣ, какъ Людвигъ Берне. Не смотря на шестьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда Берне писалъ свои жгучія статьи противъ Менцеля и цѣлой плеяды нѣмецкихъ мракобѣсовъ, его произведенія сохраняютъ для насъ свѣжесть современности и жизненность, какъ будто они написаны только вчера. Его яркій талантъ и страстность, проникающая все имъ написанное…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Прошло почти два месяца, как начала… действовать, хотел я сказать, государственная дума, но жизнь, текущая ужасная жизнь немедленно остановила меня: „не действовать, а – говорить“.И мне стало стыдно за себя и грустно за думу…».
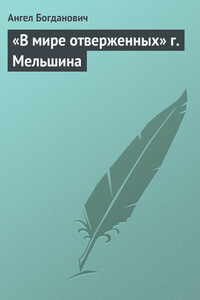
«Больше тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появленіе «Записокъ изъ Мертваго дома» вызвало небывалую сенсацію въ литературѣ и среди читателей. Это было своего рода откровеніе, новый міръ, казалось, раскрылся предъ изумленной интеллигенціей, міръ, совсѣмъ особенный, странный въ своей таинственности, полный ужаса, но не лишенный своеобразной обаятельности…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

Последние произведения г-на Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «Любовь». – Пессимизм автора. – Безысходно-мрачное настроение рассказов. – Субъективизм, преобладающий в них.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.