Рассказы 30-х годов - [9]
А фреза? — кричал начальник цеха, наступая на Игнатова. — Фреза ступится, а экономичность…
— У меня подсчитано, — сказал бывший чернорабочий инженеру, вынимая засаленный блокнот. — вот расчет. Фреза тупится очень медленно. Можно сказать, она сохраняется лучше, чем при прежней скорости.
Мастера с сомнением качали головами. Игнатов побледнел,
Две недели проверяю, — крикнул он. Ведь детали-то — вот. Он показывал на горку деталей, переводя глаза с одного лица на другое, и вдруг задышал трудно и коротко.
А ты, Лена? — он с надеждой посмотрел на сменщицу.
Я согласна с товарищем Гринце, — сказала она. Фрезы затупятся.
Игнатов нагнул голову.
Пойдем в партком, — сказал он хрипло и двинулся к выходу, одевая пиджак и никак не попадая в рукав.
Техническое совещание, созванное парткомом, подтвердило правоту Игнатова.
А теперь, — сказал фрезеровщик, — я беру шефство над Казаковой.
Учить меня будешь? — Едва выговорила Лена.
Не кусай губы, Лена, не гордись, Немного обиды на начальника цеха, немного обиды на мастера. Много обиды на тебя. Давно с тобой работаем. Станок любишь. Могла бы понять…
Лощишь? Все равно лучше тебя буду работать. И с парашютом буду прыгать. И в хоккей играть. И шефство над тобой возьму.
Вот это дело. А одной фрезой резать попробуешь?
Попробую. — И Лена засмеялась.
Заводская газета выпустила «молнию». В ней было сказано, что фрезеровщица Казакова вызвала стахановца-фрезеровщика Игнатова соревноваться на лучшую работу. Лена прикрепила газету кнопками к шкафчику с инструментами, обвела заметку синим карандашом. Игнатов улыбался, принимая смену. На инструментальный шкафчик Лена постлала белую клеенку. После одной смены, когда Казакова дала 500 процентов нормы, рабочие поставили на шкафчик большой букет цветов, из дома Лена принесла метелку, зеркало. — Хозяйка, — говорил Павел Иванович, почтительно похлопывая Лену по плечу. Горлов косился на станок Лены: чистюля. Работала три года, все чисто было, а теперь вдруг — грязно. Клеенку белую постлала, — А как же — смеялась Лена — не дома.
Ну что, — сказала Паня Шпагина, — ругала Игнатова, а теперь сама за ним тянешься?
Дура, — ответила Лена, открыла сундук, достала открытые туфли. Туфли цвета беж были куплены давно, но одевать их как-то не было охоты.
— Буду носить на работу, — сказала Лена удивленным подругам.
Петька! Ты сколько сделал?
— Сразу шесть деталей двумя фрезами. 1400 процентов. Шутка?
Можно больше.
Ну?
Вот так поставить, — можно восемь деталей сразу делать.
Теперь уже Игнатов дожидался с нетерпением конца смены.
— Сколько? — Спросила Лена, покусывая мизинец.
— Две тысячи, сто процентов, товарищ Казакова, — ответил технический директор завода. — Ни одной отметки ниже «хорошо».
Игнатов в восхищении тряс за плечи сменщицу.
Маникюр сломала, вот как спешила, — сказала Лена.
Лена сходила с трибуны заводского митинга. Технический директор потянул ее за рукав.
Сколько вам лет, товарищ Казакова?
Двадцать два.
Молодец! Глаза блестят! А волосы? — Чистое золото. Красавица, красавица… Поздравляю.
Вторая рапсодия Листа
В городе не было своего сумасшедшего. Эту штатную городскую вакансию 10 лет занимал вшивый звонарь Кузя. Когда-то у звонаря утонул сын, и с тех пор Кузя считал воду — блевотиной дьявола. Он отказался от мытья и не ходил в Заречье. Он шептал голубоглазым встречным: «Дьявол плюнул в глаза ваши». Он трижды крестил стакан перед чаепитием. Кормили Кузю черноглазые и кареглазые лавочники. Недавно Кузя умер, и горожане приглядывались к старику в вытертой, блестящей крылатке, раздумывая, не определить ли его в сумасшедшие.
Мальчишки давно уже бегали за ним и кричали: «чижик, чижик». Давно, когда еще не родились старшие братья этих мальчишек, старик был учителем музыки. Кличку «чижик» придумали не дети. Умирала жена старика, он выменял пианино на масло и выписал профессора из Москвы. Жена умерла, и старик поступил тапером в кинематограф. Между двумя сеансами «Сказки любви дорогой» таперу подали конверт с лиловой расплывчатой печатью. Командир полка извещал, что оба сына старика, красноармейцы, погибли в бою, как герои. Старик аккуратно уложил бумагу в конверт и сел к роялю. Но в самом патетическом месте он заиграл чижика. Сеанс окончили без музыки, и заведующий кинематографом весь вечер, как мог, утешал старика. Через неделю заведующий его уволил. Райвоенкомат выхлопотал старику пособие.
Каждое утро огромный, с отечным лицом, тяжело дыша, он шел через город, опираясь на палку. Львиные головы — застежки крылатки — сверкали. Старик ежедневно чистил львиные морды мелом. Он двигался мимо вырубленных на дрова садов, мимо коз, объедавших афиши о мобилизации, мимо чахлых огородов, обнесенных колючей проволокой, мимо церквей, еще не переделанных в кинематографы и яростно вздымавших к небу измятые груди своих куполов. Он шел на рынок.
Рынок был переименован в «Площадь борьбы со спекуляцией». Там велась борьба со спекуляцией. Раз в неделю взвизгивали свистки и рыночные торговки. За заборы домов летели гимназические пальто, мешки махорки, самосадки и матросские тельняшки. За ними прыгали сущие и будущие владельцы вещей. В подворотне прятался попугай, который вытаскивал счастье.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

Новая книга Александра Поповского «Испытание временем» открывается романом «Мечтатель», написанным на автобиографическом материале. Вторая и третья часть — «Испытание временем» и «На переломе» — воспоминания о полувековом жизненном и творческом пути писателя. Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом.
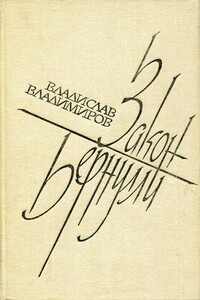
Герои Владислава Владимирова — люди разных возрастов и несхожих судеб. Это наши современники, жизненное кредо которых формируется в активном неприятии того, что чуждо нашей действительности. Литературно-художественные, публицистические и критические произведения Владислава Владимирова печатались в журналах «Простор», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. В 1976 году «Советский писатель» издал его книгу «Революцией призванный», посвященную проблемам современного историко-революционного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эпизод из жизни северных рыбаков в трудное военное время. Мужиков война выкосила, женщины на работе старятся-убиваются, старухи — возле детей… Каждый человек — на вес золота. Повествование вращается вокруг чая, которого нынешние поколения молодежи, увы, не знают — того неподдельного и драгоценного напитка, витаминного, ароматного, которого было вдосталь в советское время. Рассказано о значении для нас целебного чая, отобранного теперь и замененного неведомыми наборами сухих бурьянов да сорняков. Кто не понимает, что такое беда и нужда, что такое последняя степень напряжения сил для выживания, — прочтите этот рассказ. Рассказ опубликован в журнале «Наш современник» за 1975 год, № 4.

В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.

Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.
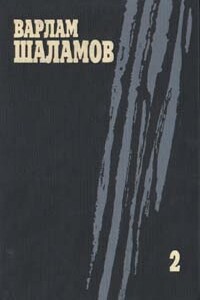
Варлам Тихонович Шаламов (1907 — 1982) не увидел изданными свои колымские рассказы. Трагическая судьба — двадцать лет тюрем и лагерей — надолго отодвинула знакомство читателя с его прозой.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.

Первое в России полное издание автобиографической повести выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982). «Четвертая Вологда» раскрывает истоки духовного становления автора знаменитых «Колымских рассказов», содержит глубокие раздумья о крестном пути России. В книгу включены так же рассказы и стихи В. Т Шаламова, связанные с Вологдой. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
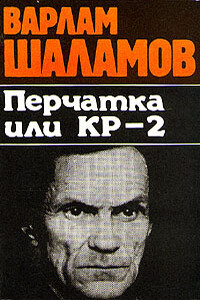
Имя писателя Варлама Шаламова прочно вошло в историю советской литературы. Прозаик, поэт, публицист, критик, автор пронзительных исповедей о северных лагерях — Вишере и Колыме. В книгу вошли не издававшиеся ранее колымские рассказы «Перчатка или КР-2».
