Рассказы 30-х годов - [6]
Ходка былая на работу-то, ходка. По полтиннику в день, вырабатывала: зимами-то фунт керосину в коптилке сжигали. В полуден полоскаешь да чайку попьешь — очень мы чай любили, да и сахару не жалели: когда вприкуску, а когда и вприглядку попьешь… И опять за коклюшки… А уж плетея была! Я на узком кружеве-то не сидела. Цельные платья выплетала я, тальмы, вуали, наколки, чепцы плела…
Старопрежнюю работу только и знали, что я да Угрюмова Пелагея, плетея наша, что в Петербург ездила. А только паву и древо мои и Пелагее не выплесть. Вятское это плетение, пава-то с деревом…
Но о «паве и дереве» внучка слышала много раз — без малого двадцать лет рассказывает об этом Анна Власьевна.
— Только бы разок паву и дерево выплесть, да и на кладбище. Не успела я дочек научить, не успела. Принесли бы, показали.
И дочери приносили каждый новый узор матери. Анна Власьевна ощупывала кружево, нюхала, гладила пальцами:
— Нет, не то. Далеко до моих.
— Где нам, маманя. Была ты первая коклюшница по Северу, и теперь тебя так кличут. Анесподист Александрович, приемщик, недавно баил: «Твою бы матку, Настасья, в артель».
— То-то. Да и нитка толста. На такой нитке только к наволокам кружево идет…
— Бабушка, Федя-то доктор теперь. Распишемся мы и тебя возьмем. Работать не надо будет.
— Не из-за хлеба куска на артель верчу. Шестьдесят лет кружевничаю, разве отстанешь? Так с коклюшкой и помру. Сдавали сегодня?
— По первому сорту, бабушка.
— Мы кружевницы природные. Нам нельзя позориться. Ну девка, потревожила ты меня, — пойду досыпать.
— Чего много спишь, бабушка?
— Эх, внучка. Глаза ведь ко мне ворочаются. Во снах-то я ВИЖУ. Рожь, милушка, вижу — колос к колосу, желтую-желтую. Кружево вижу, и Софью Павловну вчера видела — она меня коклюшкой в бок ткнула, когда губернаторше численное кружево я плела, да в счете ошибалась. А больше всего плету во сне пав и древо, что вы сплести не можете. Из моих-то пав, баили, сама английская царица мантилью сошила…
Анна Власьевна уже добралась до своей койки.
— Бабушка, не ложись. Мама идет, обед собирать будем.
Последнее время за обедом у Анны Власьевны было много беспокойства.
Она ворчала:
— Что это мне в отдельной тарелке? Или я заразная какая?
— Все так едим, маманя. Дай руку покажу.
Волновалась:
— Что это вы каждый день мясо и мясо?
— Ешь, бабушка.
Или хитрила:
— Алексей! Как ноне рожь-то? Принеси колос…
— Зачем?
— Хлеб что ли у вас растет какой особенный?
— А что?
— Вот кровать с шишками купили…
Старуха завела привычку: оставаясь одна, она передвигалась по комнате и ощупывала новые вещи. Однажды ощупала большое зеркало и заплакала. Эта менявшаяся география избы тревожила слепую. Годами она двигалась уверенно, как зрячая, и вдруг натыкалась на гнутые стулья, на комод, на новый кованый сундук. — «Оставьте угол-то мой в покое», — просила она детей.
— Хлеб да соль.
— Вот Федя, бабушка.
— Ишь, голос-то какой густой. Дьяконский. Ну, подойди, подойди, дай я тебя потрогаю. Экие лапищи.
— Ну что, Анна Власьевна? Все пава за павой?
— Пава и древо, дурень. Пава за павой — иной сколок — проще…
Федор Карпушев, соседский сын, чтобы поразить будущих родственников, облачился в блестящий белый халат. По-московски любезничая, по-родному «окая», он усаживал старуху перед окном.
— Пожалуйста, Анна Власьевна, сюда сядьте… Повыше голову поднимите. Вы — мой первый пациент на родине.
— Пациент, — ворчала старуха, довольная почетом. — Пациент. Пахать надо. Фершал.
— Анна Власьевна, а вы врачей своевременно посещали?
— Чего?
— Вы глаза обследовали у врачей?
— Чего?
— В околотке, я говорю, бывала с глазами? — заорал Федор.
— В околоток-то ходила. Капли какие-то пахучие дали. Баили: табак бы нюхала, глаза-то и целы были. Да ведь не я первая. Кружевницы-то тонких узоров все глазами мучаются. Вот сноха-то Карпушева Ивана Павловича в Николин день…
Федр грохотал рукомойником.
— Знаешь, бабушка, твои глаза поправить можно. Операцию надо делать. Катаракт это…
— Полно брехать над старухой. У лавочника у нашего, у Митрия, катарак-то в желудке был, ему Мокровской, дай господи светлой памяти. Я ему так и говорила: все равно умрешь, черт, мало ты над кружевницами изгилялся. По 300 кружевниц на него работало.
— Да не рак, а катаракт, бабушка.
— Все одно…
Но старуху уговорили. Анна Власьевна пришла в благодушное настроение и допытывалась у Федора:
— А косить можешь?
— Мало я косил…
— Ну, тогда лечи.
— К профессору отвезем.
— А профессор твой может косить?
— Не знаю. Не может, наверное…
— Ну, все одно… Вези. Только коклюшки я с собой возьму.
Федор увез старуху в Москву, а через два месяца написал, что операцию делал самый знаменитый профессор, что Анна Власьевна ВИДИТ. Потихоньку вертит коклюшками, а присмотреть за ней некому. Москва ей не понравилась: «не ослепнешь, так оглохнешь», и что через неделю думает он отвезти Анну Власьевну на Ярославский вокзал и посадить в поезд.
Но старуха приехала раньше, не вытерпела.
В стеклянный осенний день на полустанке вылезла она из вагона. Шофер закричал с грузовика: «Садись, подвезу, бабушка. Тут ближе 10 верст нет деревень…»
— Спасибо, сынок. Я и пешей дойду…
По тропке вдоль серых больших стогов дошла она до своей деревни. На околице хмурый бондарь стругал доски для огромного бака.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
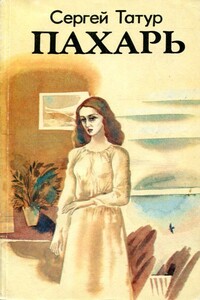
Герои повести Сергея Татура — наши современники. В центре внимания автора — неординарные жизненные ситуации, формирующие понятия чести, совести, долга, ответственности. Действие романа разворачивается на голодностепской целине, в исследовательской лаборатории Ташкента. Никакой нетерпимости к тем, кто живет вполнакала, работает вполсилы, только бескомпромиссная борьба с ними на всех фронтах — таково кредо автора и его героев.

В новом своем произведении — романе «Млечный Путь» известный башкирский прозаик воссоздает сложную атмосферу послевоенного времени, говорит о драматических судьбах бывших солдат-фронтовиков, не сразу нашедших себя в мирной жизни. Уже в наши дни, в зрелом возрасте главный герой — боевой офицер Мансур Кутушев — мысленно перебирает страницы своей биографии, неотделимой от суровой правды и заблуждений, выпавших на его время. Несмотря на ошибки молодости, горечь поражений и утрат, он не изменил идеалам юности, сохранил веру в высокое назначение человека.

Сборник произведений грузинского советского писателя Чиладзе Тамаза Ивановича (р. 1931). В произведениях Т. Чиладзе отражены актуальные проблемы современности; его основной герой — молодой человек 50–60-х гг., ищущий своё место в жизни.

Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.

В однотомник Сергея Венедиктовича Сартакова входят роман «Ледяной клад» и повесть «Журавли летят на юг».Борьба за спасение леса, замороженного в реке, — фон, на котором раскрываются судьбы и характеры человеческие, светлые и трагические, устремленные к возвышенным целям и блуждающие в тупиках. ЛЕДЯНОЙ КЛАД — это и душа человеческая, подчас скованная внутренним холодом. И надо бережно оттаять ее.Глубокая осень. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ НА ЮГ. На могучей сибирской реке Енисее бушуют свирепые штормы. До ледостава остаются считанные дни.
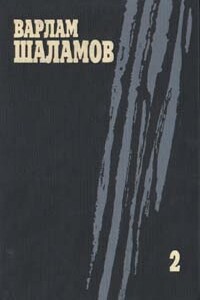
Варлам Тихонович Шаламов (1907 — 1982) не увидел изданными свои колымские рассказы. Трагическая судьба — двадцать лет тюрем и лагерей — надолго отодвинула знакомство читателя с его прозой.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.

Первое в России полное издание автобиографической повести выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982). «Четвертая Вологда» раскрывает истоки духовного становления автора знаменитых «Колымских рассказов», содержит глубокие раздумья о крестном пути России. В книгу включены так же рассказы и стихи В. Т Шаламова, связанные с Вологдой. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
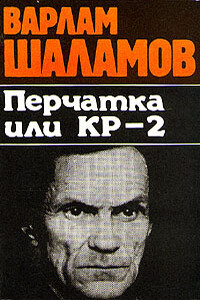
Имя писателя Варлама Шаламова прочно вошло в историю советской литературы. Прозаик, поэт, публицист, критик, автор пронзительных исповедей о северных лагерях — Вишере и Колыме. В книгу вошли не издававшиеся ранее колымские рассказы «Перчатка или КР-2».
