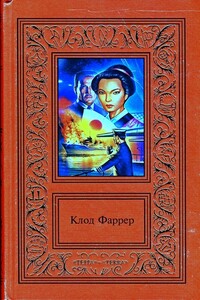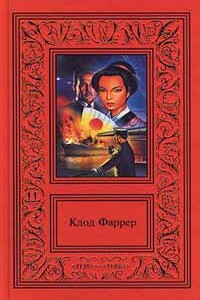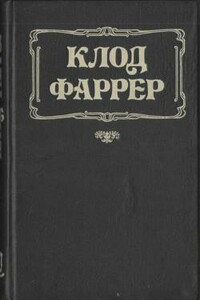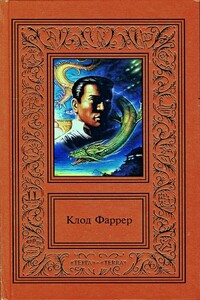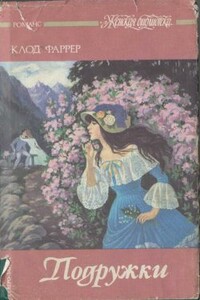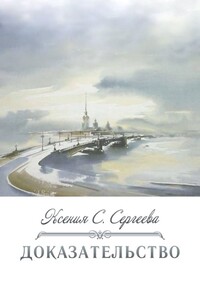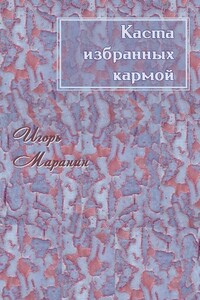…И чтобы она, вдруг, так встала! Стремительно, легко, будто и не отягощена опием и эфиром.
Да, так. Глаза ее прояснились, как после молитвы. Хотя стояла она сейчас перед нами совершенно голая.
…Хотя уже давно были мне знакомы эти мягкие округлые плечи, эти небольшие крепкие груди и этот живот, еще по-девичьи узкий и столь желанно упругий.
Однако ж эту простоватую работницу табачной фабрики… нет, не узнавал я в той, кто сейчас — так встала и так смотрела!
…Стоит ли говорить, как ей — вдруг такой! — удивился ее сегодняшний избранник (обладатель роскошной кровати все еще лежал на циновке): не доверяя своим глазам, он встряхнул головой, будто отгоняя странное видение, и, приподнявшись на локте, известным всем нам зна́ком (ладонью лодочкой) пригласил ее в свою комнату.
Но Эфир… То есть та женщина, которая перед нами стояла, ответила надменно, свысока ему сейчас во всех смыслах — главное же, на каком языке!..
— Mundi amorem noxium horresco.[2]
…А ведь наша Эфир знала лишь родной, французский, на котором читала она лишь вывески магазинов и, во время своей работы, названия сигарет. Да и о какой integer vitae[3] могла говорить эта, скажем помягче, кокетка.
Однако сейчас… Да, да, и сейчас, спустя столько лет, вижу въявь…
Стояла перед нами другая женщина. Аристократка! Со взглядом, выражающим ум, интеллект. Но при этом — аристократка, ушедшая в монастырь. Монахиня. И даже, может… судя по ее озаренному лицу, игуменья монастыря!
Она говорила:
— Jejuniīs carnem domans dulcique mentem pabulo nutriens orations, coeli gaudis potiar.[4]
…Конечно же, ее видели и слышали все. Но все, кроме меня, Гартуса и того, кого избрала она себе сегодня, так уже накурились, что воспринимали происходящее как вполне должное видение.
Из нас же троих один только Гартус, наш клоун, оставался невозмутимым. Более того. Вдруг переломившись в почтительном поклоне на две части (желтое и синее), выпрямился медленно (как и подобает перед важной особой), отгладил назад упавшую на лицо черную волну волос… И обратился к ней гораздо почтительнее, чем обычно мы обращались к своим посетительницам, скорее даже — спросил:
— Зачем вы так стоите? Вы… так — устанете!
Женщина наклонила голову ответно. Однако, видимо, решила разъяснить:
— Fiat voluntas dei! Iter arduum peregi et affligit me lassitudo. Sed dominus est praesidium.[5]
Да, она говорила по-латыни, я ее понимал, вспоминая из катехизиса и что-то из того, что еще держалось в памяти после учения в университете.
А Гартус… Он, всегда самоуверенно громкий, сейчас спрашивал таким тихим голосом, каким иногда спрашивают, когда силятся что-то вспомнить сами, показалось даже, что он, Гартус, слабеет сейчас в этом своем усилии — вдруг, и правда, присел на корточки…
— Откуда… вы пришли?
— A terra Britannica. Ibi sacrifico sacrificium justitiae, qua nimis peccavi, cogitatione, verbo et opere. Mea maxima culpa.[6]
— Какой ваш грех?
…И как же вдруг покраснело лицо женщины!
— Cogitatione, verbo et opere. De viro ex me filius natus est.[7]
…Я смотрел то на эту женщину (можете себе представить — как я на нее смотрел!), то на Гартуса (тот было начал готовить опий, но зна́ком попросил об этом меня).
Да, вижу как сейчас… Он, желто-синий, на корточках, опираясь рукой о пол, смотрит снизу вверх, на черных волнах его волос играют блики от нервного, под иглой с опием, лампового пламени. Она… Нет, вовсе она не Эфир, эта незнакомая, чужая нам женщина. Не Эфир?.. Ведь явно было по всему, хотя бы и по этой ее позе (закинув руки за голову, а потому — подавшись телом вперед — какая поза женщины может быть обольстительнее!), она говорила как монахиня, речь ее была строгой. А телом… Телом своим говорила она сейчас о той жизни, какой когда-то была опалена.
Вот и голос ее возвысился, зазвучал прежней страстью…
Безумные всклики безумной любви!
…Поддеть опия, подождать, когда на огне лампы зашипит на кончике иглы, опустить горячую каплю в трубку — все это я проделал механически, оглушенный тем, что слышал сейчас и видел.
Но вот опять… Опять речь ее успокоилась, зазвучала медленно, нараспев. Торжественный напев латинских слов! Будто в храме.
И стало ясно, что та женщина, которая стояла теперь перед нами — блудница и монахиня одновременно! — была союзницей древних сил, гордых своим умом магов, и, раскаявшаяся, теперь — их противницей.
Правда, тогда все эти судорожные фразы еще не имели для меня того смысла, который, может быть, и не совсем правильно, я придаю им теперь: «…Другие звезды! Другая луна… Царство теней в серебристом молчании… Пустой Космос… Безверие бесконечности… Консилиум неверующих, совокупляющихся в монастыре…. От ума — к спазмам оргазма… Кастраты! Кастраты Адамова семени!..»
Явно, что говорила она об одном из пап. Всем известном… Наместник Бога на земле погряз в гордыне ума и наслаждении тела. Но… Вдруг — отринул! Отринул свое безверие.
…Великое покаяние великого человека!
Она говорила:
— Fuit ille sacerdos et pontifex, et beatificus post mortem. Nunc angelorum chorus illi absequantem concinit laudem celebresque palmas. Gloria patri per omne saeculim.[8]
…Кажется, эти слова взволновали нашего клоуна (ведь Гартус начал было учиться на священника, а это учение, как известно, начинается с латыни).