Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 - [37]
— Они здесь должны были бы не указатель с названием города привесить — а надпись: «Ла’алот!» Восхождение! — острит Шломо, кашляет, смеется сам с собой — выпустив опять руль из рук — и дорогу из внимания.
Зрительно подъем не заметен — но здесь я сразу узнаю эту точку, где мы начинаем набирать высоту — по заложенным ушам, почти как в самолете. И эта всегдашняя, извечная на этом пути, тревога (смешанная с недовольством очень громкими — диссонантно натужно веселыми — никак с дорогой этой не резонирующими словесными извержениями попутчика), в солнечном сплетении производящая бунт, — сменяется немотой радости.
Я говорю про себя: «Халва». И чувствую сладость. Халва по обе стороны от дороги. Взрезанная крайне неровно, рвано — высокая, слоеная, темная, подсолнечная, а не тахинная из Яффы.
Шломо недоволен, что я молчу, и требует немедленных ответов:
— А кто твой бой-фрэнд? Кто он по профессии? Нет, а почему я, собственно, не могу у тебя спросить, есть ли у тебя бой-фрэнд? Что в этом такого?!
Немного бравурной пытки — и вот уже — тот самый вид, от которого умолкает (ровно на три секунды) даже Шломо: улитка, сверкающая в черной мягкой ночи огнями, закручивающаяся спиралью по разноуровневым холмам. Улитка на сизой запотевшей от ночного холодка масличной ветке.
— Ты не против, если мы сначала, прямо сейчас затормозим ненадолго в Старом городе и погуляем? — жизнерадостно и вежливо-галантно (с тем сортом вежливости, который не только не предполагает отказа — но и надеется встретить восторг согласия) интересуется Шломо. — Я кучу всего хочу тебе в городе показать!
Я против. Нет, я категорически против, я не шучу. Шломо готов разреветься. Мы договаривались, — говорю (с некоторой злостью), — что едем только в Новый город к твоей матери. Нет, нет, Шломо, в Старом городе я гуляю только одна. Хуже ночного кошмара выдумать невозможно — войти туда с бурливым словоохотливым Шломой, все окружающее тут же на автомате переплавляющим в трёп, — невозможно!
Шломо скуксил большое свое лицо и обижен насмерть. Я стою на обороне насмерть тож. Ни за что. Сколько раз я видела в своей жизни эту странную ревность и зависть в глазах мужчин — в ту секунду, когда они понимают, что для меня этот город важнее. В растерзанных чувствах оба голодным взглядом наблюдаем за провозимой городской стеной (болезненно далекая-близкая декорация — когда туда нельзя войти) — которая в темноте похожа на горелую рифленую мацу — с чуть дрожащими на ветру, кивающими малиновыми маками в расщелинах живых камней — и уезжаем на соседний холм.
Ночью, уже почти под утро, я стою у узенького окна — и слышу — через балкон, — как Шломо в соседней комнате кряхтит и кашляет. Можно, если встать на цыпочки, увидеть почти весь город. Я не зажигаю свет в этой судорожно узенькой комнатке с маленькой кроваткой, которую мне отвела мать Шломы — я надеюсь дождаться рассвета. Холодно, безумно холодно ночью в этом городе — из растворенного окна обдает ледяным почти дуновением — и я кончиками пальцев вспоминаю изморось, оледень, ледяной пот, появляющийся на камнях домов в Старом городе ночью — иногда даже после нестерпимо жаркого дня. И можно теперь, будучи одной, еще раз рассматривать в свежей памяти лицо матери Шломы — еврейки из Будапешта, иссохшей (беззащитно смотрящейся в огромной современной Иерусалимской квартире в новом высотном доме — в огромных, квадратом расставленных в центре гостиной диванах), деловой, надававшей Шломе тумаков и взыскательно спросившей его, почему это его клиент-режиссер самостоятельно, минуя Шлому, общается с кинокомпанией; выговаривающей, как это Шломо допустил. Шломо поджимает уши и пятки — и виновато оправдывается.
— Когда она вышла из Освенцима, она ничего не ела. Или ела очень-очень мало. Все же были как скелеты. Те, кто начинал сразу после освобождения есть — сразу умирали. Они не умели больше есть. Но она выдержала — ела совсем-совсем мало, даже когда появилось что — и выжила», — шепчет мне Шломо, усевшись немедленно за компьютер в кабинете и маниакально читая (по личной подписке) все завтрашние израильские, американские, итальянские, английские газеты — и, кликая курсором, успевая мне комментировать, какая из них какого взгляда придерживается на интересующие его (а интересуют его все!) проблемы.
— Мой отец партизанил — ему удалось избежать отправки в лагерь — он сбежал воевать к партизанам. А когда моя мама вернулась из лагеря, и они поженились — в Будапеште уже была красная диктатура. И его посадили в тюрьму — уже красные.
— За какую-то антисоветчину? Или потому что был еврей?
— Нет, ни за то, и ни за другое: а за контрабанду и незаконную торговлю.
— Чем же он торговал?
— А буквально всем, что было, тем и торговал — ничего же не было ни из еды, ни из простейших вещей. И он так на еду для матери зарабатывал.
— И сколько же он просидел?
— Очень недолго. Мать умудрилась всунуть взятку часовому, чтобы его отпускали по ночам на свидания к ней. И часовой его отпускал. А в одну из ночей он в тюрьму не вернулся: сбежали из Будапешта в Австрию! Договорились, за взятку, конечно, тоже, с паромщиком, который перевозил коров на пароме по Дунаю, чтобы им сбежать из страны. И их спрятали под покров досок, в пол этого парома — и так они, под коровами, незаконно пересекли границу — и оказались в свободной Австрии — а оттуда уже, через всю Европу, обходными путями, добрались до Италии. Мать до сих пор переживает, что того часового, который отца за взятку выпускал на ночь из тюрьмы, наверное, самого в тюрьму после их бегства посадили!

Я проработала кремлевским обозревателем четыре года и практически каждый день близко общалась с людьми, принимающими главные для страны решения. Я лично знакома со всеми ведущими российскими политиками – по крайней мере с теми из них, кто кажется (или казался) мне хоть сколько-нибудь интересным. Небезызвестные деятели, которых Путин после прихода к власти отрезал от властной пуповины, в редкие секунды откровений признаются, что страдают жесточайшей ломкой – крайней формой наркотического голодания. Но есть и другие стадии этой ломки: пламенные реформаторы, производившие во времена Ельцина впечатление сильных, самостоятельных личностей, теперь отрекаются от собственных принципов ради новой дозы наркотика – чтобы любой ценой присосаться к капельнице новой властной вертикали.
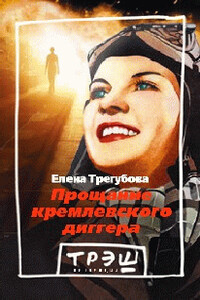
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…