Раны Армении - [10]
Чем же еще заставишь ребенка полюбить свой язык? Продай крестьянину алмаз, — конечно, алмаз хорошая вещь, но если у крестьянина за душой нет ничего, так он и куска просяного хлеба не даст за бесценный твой камень.
Это так.
Но когда в Европе я читал в иных книгах, что у армянского народа, видно, нет сердца, если столько событий стряслось над его головой и не нашлось ни единого человека, который написал бы хоть одно доходящее до сердца произведение; что имеется — то все о церкви, о боге, о святых, а между тем книги язычников — Гомера, Горация, Вергилия, Софокла — даже дети держат под подушками, потому что эти книги говорят о мирских делах. Сказать, что все европейцы люди неразумные, неверующие, что они ради таких пустяковых дел оставили дело божие, было бы глупо. Но как же нравятся им эти книги, а наш «Нарек»[20] они обошли? Я знал твердо, что наш народ не таков, как думают о нем европейцы, — но что поделаешь? Жернов без зерна не замелет. Что тут скажешь?
Думал я так: написать, допустим, о героях, — да, среди нас были их тысячи, и теперь тысячи! Об умных речах, — так наши старики тысячи умных вещей знают! А гостеприимство, а любовь, дружба, храбрость, знаменитые люди — разве у наших сельчан не полны сердца именно этих мыслей! Захочешь ли рассказать басню или пословицу привести, или шутку острую, так самый последний мужик тебе не одну, а целую тысячу подскажет.
Я недоумевал: что же тогда надо сделать, чтобы другие народы узнали наше сердце, хвалили бы нас и любили наш язык? Я знал твердо: в османской земле, а также в персидской, сколько было замечательных, мудрых, одаренных людей, сколько при ханских, шахских, султанских дворах любимцев-ашугов, хороших певцов, стихотворцев, — большею частью были армяне. Достаточно упомянуть хотя бы Кешиш-Оглы[21] или Кёр-Оглы[22] чтоб доказать, что слова мои не ложь.
Да хотя бы и теперь: пусть поговорит кто-нибудь с Григором Тархановым[23], послушает его беседу, его язык красноречивый, полюбуется на его отменный рост, на прекрасное лицо. Чего стоит одно его уменье подражать речи, движениям, манере садиться и вставать сотням самых разных людей и народов, — ослепнуть мне, если я встречал что-либо подобное в лучших театрах Европы! — а школу-то он только тогда, может быть, и видел, когда у нас грамоту крюком ловили либо пулей сбивали. Вот и узнаешь, какие в армянском народе дарования!
В таких тяжких думах коротал я свои дни. Сколько раз хотел руки на себя наложить. Не находил никакого исхода. Пусть мне поверят, но это горе так овладело моим сердцем, что я часто, как безумный, кидался в горы, в ущелья, бродил в одиночестве, все думал, — и возвращался домой с сердцем, переполненным грустью.
Однажды во время летних каникул, распустив утром учеников, я, как обычно, отправился после обеда бродить по горам. Шел, шел в отчаянии и пришел в Немецкую колонию[24], к одному приятелю-немцу. Они очень мне посочувствовали, пожалели меня и три дня не отпускали обратно в город.
А в городе дорогие ученики мои, знакомые, друзья давно уже меня оплакивали. Думали, что я утонул в Куре, — они знали, что я каждый день, утром и вечером хожу купаться. Опять же мои дорогие, любимые ученики бросились по моим следам — узнать обо мне хоть что-нибудь. Как-то утром я сидел у окна, погруженный в свои думы, а они как раз прошли мимо. Едва я их увидел, сердце во мне перевернулось. Кто в силах описать наше свидание в тот день? У кого есть сердце, тот сам поймет.
Может быть, когда я буду в могиле, эта ваша любовь улетучится из моей памяти, о мои любезные, дорогие друзья! Но пока надо мною есть голубое небо, пока исходит дыхание из уст моих, я вас, милые мои друзья, буду почитать, как святых, жизнь свою отдам за вас!
Но, увы! Если и небо не пребывает одинаково ясным, что говорить о сердце человеческом? Едва-едва засияло солнышко в моих мыслях, опять черные тучи подняли голову, опять гром и молния разразились в моем сердце. Кинуться в воду я не мог: страх божий был у меня в душе, голос моего невинного младенца — в ушах. Любовь и родительская жалость пребывали в груди у меня. Если бы я навек успокоился, кто бы стал содержать моего сироту?
Нет, вот о чем говорил я сам с собою: надо бы засесть как следует и, насколько ума достает, прославить наш народ, рассказать о подвигах замечательных наших людей, — и опять я задумывался: для кого же писать, если народ языка моего не постигнет? Писать на грабаре, все равно, что писать по-русски, по-немецки, по-французски: десяток, быть может, найдется таких, кто поймет, а для сотен тысяч — что мое писание, что мельница ветряная! Ведь ежели народ не говорит на этом языке, не разумеет его, тут хоть сыпься золото из уст — что толку? Каждый человек жаждет того, что сердцу его на потребу. Что мне твой сладкий плов, раз я его не люблю?
С кем я ни говорил, все только о том и разглагольствовали, что, дескать, народ наш нелюбознателен, что чтение для него никакой цены не имеет, а между тем я видел, что у этого самого народа нашего, будто бы до чтения не охочего, и история Робинзона, и глупая книжка «Медный город»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
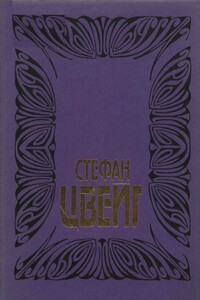
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».