Ранние рассказы - [3]
Э, да все не об этом речь — я ведь хотел рассказать вам о приготовлениях к именинам Елпидифора Перфильевича. Извольте, теперь у меня не будет отступлений. В доме у Елпидифора Перфильевича было все убрано, окошки протерты, пыль сметена, стулья расставлены вдоль по стенам, в углу залы поставлен орган, под звуки которого вечером запляшет весь Черноград; синие и желтые обои с изображением аркадских пастушков, Павла и Виргинии и прочего тому подобного, были подклеены и уже не висели как расстегнутый ворот у волостного писаря. Славные картинки были на этих обоях, чудесные! Вы, я думаю, видали их на станциях. В прихожей у печки, как великан, стояла штука, на которой будут ужинать; в буфете все было вымыто, вычищено, поставлено в порядок, в кабинете на столе положен картуз рублевого табака и картуз табака-самодельщины; в другой комнате был готов чайный прибор, на блюдечках разложены пастилы, варенья, пряники вяземские и городецкие, грецкие орехи, изюм и финики. В кухне с раннего утра все было в движении; там две стряпухи и одна Матрена Елистратовна делали чудеса из теста. Матрена Елистратовна недавно была в губернском городе, там обедала на крестинах у повытчика уголовной палаты и имела таким образом случай видеть губернскую роскошь. Такой же точно стол она хотела приготовить и в Чернограде. И что же? Ведь приготовила! Да что тут говорить?.. Мастерица была покойница, — теперь она уже скончалась. Дай бог ей царство небесное, старушка была славная. Так вот Матрена Елистратовна день-деньской бегала то в кухню, то в кладовую, то в столовую, уже не знаю — как ее ноги-то носили. И правду сказать, несмотря на шестьдесят лет, она показала пример неимоверной деятельности и особенного рачения. Все занимало, все беспокоило ее: тут надобно посмотреть, не перешел ли пирог, там — не украла ли стряпуха масла, — она ведь на сторону любит припасы носить; здесь — много ли сахара положено в пирожное, не пережарилось ли жаркое. Господи боже мой! Да тут столько хлопот, что у всякого из нас на месте Матрены Елистратовны пошла бы голова кругом; зато ведь недаром и хлопотала она: на другой день весь Черноград заговорил о прекрасном ужине у Елпидифора Перфильевича и о высоком знании поваренного искусства Матрены Елистратовны.
В углу людской избы Петр, устарелый человек Елпидифора Перфильевича, натирал шандалы каким-то порошком, который странствующие иудеи выдают чуть-чуть не за философский камень. Всякий, кто даже и не слыхал о химии, тот час же догадался бы, что это ни больше ни меньше, как превращенная в порошок аспидная доска, но зато такого догадчика в Чернограде сочли бы просто волтерианцем и невеждою. Как не верить чудесной силе порошка заморского — ведь по два с полтиной за фунт его платили. Шутка? На дворе против окошек ставили транспарант, на котором было нарисовано вензелевое имя Елпидифора Перфильевича; внизу намалеваны слова: «Ноября 2-го 1829 года», а кругом всякая всячина, презатейливые диковинки: и барашки с курочками, и поросятки, и уточки, и детки Елпидифора Перфильевича, и грядка с табаком, и всякие и всякие тому подобные хозяйственные заведения. Это работа не сельского маляра, что крышу красит, а рисовального учителя. Рисовальный учитель взял за это с Елпидифора Перфильевича лайковый кисет с изображением взятия Браилова и персидской войны. Славная вещь — с иголочки. Учитель хлопотал около своей работы и заранее был в восхищении. «Вот вечером, — думал он, — все пойдут смотреть на мою работу, и Настенька городническая пойдет, все будут хвалить меня, и Настенька будет хвалить. Еще улыбнется, может быть, а может быть, еще и скажет: «Это вы построили, Федор Дмитриевич?» А я ей скажу: «Я-с, Настасья Михайловна». А она — ох, ненаглядная! Она посмотрит на меня да и пойдет прочь». Исполнились ли его ожидания — узнаете после. Теперь некогда рассказывать об этом, только вот что скажу вам: известно ведь всякому из книг, что художники всегда влюбляются в принцесс, в княгинь, в графинь, в городничих, в исправниц и тому подобное. Вот и черноградский художник врезался по уши, да в кого же? Сумасшедший! В Настеньку городническую — шутка? Нет, эта барышня-то бонтонная, полированная, шляпки из губернского носит, платья от мадамов выписывает; пышная-то какая, — ну, что твой пирог с малиной! А он, пачкун этакий, в нее и влюбился — благо, что городничий-то не знает, он бы его любезного в кутузку упрятал. Нет, городничий не свой брат, шутить не любит, раз как-то и судью на будку хотел посадить за ночное шатанье. Да, на то он городничий, да еще из военных, поручик, никак шляпу с пером носит. Федор Дмитриевич — важная штука! Да городничий-то заседателю послал отказ как шест, когда он к Настеньке присватался, а Федор Дмитриевич — эка выскочка!
Между тем, как все приводилось в доме Елпидифора Перфильевича в порядок, заблаговестили к обедне. Исправник пошел в церковь пешком, — недалеко ведь; в одной руке он нес свечу, а в другой на молебен. После обедни он принимал поздравления всех черноградцев высшего и низшего разбора, которые были в церкви. Елпидифор Перфильевич всех и каждого звал чай кушать, потом пошел в земский суд. Там при входе вся приказная братия поздравила его с высокоторжественным днем его ангела. А он кивнул головой и прошел мимо таким фоном — фу ты пропасть! В присутствии секретарь, два заседателя и стряпчий давно уже дожидались его прихода.
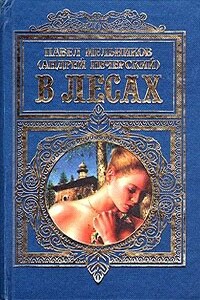
Роман П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» занимает особое место в русской литературе XIX века. Посвященный жизни и быту, стародавним обычаям раскольничьих скитов Заволжья, он своим широчайшим охватом действительности, глубоким проникновением в сущность жизненных процессов, ярко реалистическим изображением характеров снискал известность как одно из оригинальнейших эпических полотен русской литературы.
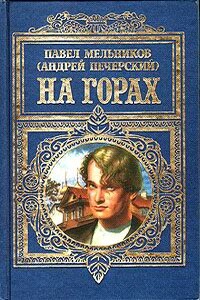
Книга П.И.Мельникова представляет собой вполне самостоятельное произведение, но в то же время является продолжением эпопеи «В лесах». В произведении воссозданы жизнь старообрядческого купечества Заволжья, быт, нравы и обычаи местного населения. Глубокое проникновение в сущность процессов, происходивших в старообрядческой и купеческой среде, талант психолога, бытописателя и мастера слова принесли романам «В лесах» и «На горах» известность и большой читательский интерес.

Из дорожных записок.Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 5–24.

Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 144–160.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Собрание сочинений в 8 т.М., Правда, 1976.

Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 39–64.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.