Пядь земли - [5]
Ю. Гусев
Свадьба
1
Первый снег выпал в начале декабря.
Принес его сырой южный ветер. Поначалу совсем еще было тепло, даже со стрех кой-где закапало. Думалось: этот не улежит, распустится в слякоть — да только к вечеру потянуло на холод и капель застыла сизыми сосульками. А снег сыпал все гуще, сыпал на кровли, деревья, скирды, забирался за ворот, шею мокрыми пальцами щупал. Мужики, такое видя, бросали дела и, кулаки в карманы сунув, бежали под крышу: на крыльцо, в сарай, на приступок хлева. Стояли там немного, глядя в белые вихри, и уходили в хату. Оборванной оставалась работа, как нитка пряденая: один конец на воле, в саду, другой — в ладони, еще зудящей от черенка лопаты, от топорища. Ненастье всем делам крестьянским положило конец. Ветер дул, закручивая снежную завесу, и в снегопаде, казалось, теснее жались друг к другу хаты, деревья — словно зябли поодиночке. Притихла деревня; одна телега только катилась со скрипом по главной улице. На ней плуг вверх лемехами: видно, пахать собрался хозяин, да лишь до околицы и доехал, а там, на люцерне старого Кишторони, пришлось поворачивать — отменила зима пахоту с другими работами заодно.
Липнет снег на ободья колес, отваливается толстыми пластами; лошаденки споро идут, чуют: пришло время отдохнуть в теплом стойле. А навстречу, вдоль заборов, бредет Жига Цебе, деревенский рассыльный, шапку на брови надвинул, палкой в снег тычет. Вёдро ль, непогода ли — ему идти. Слуге да собаке, известно, место на улице.
Телега в одну сторону уезжает, Жига Цебе уходит в другую — и опять кругом ни души, только снег шуршит на кровлях, на стогах, шуршит, поскрипывает и будто даже позванивает, словно дальний звон колокольный отдается в тонком стакане.
День-два еще ждут мужики, надеются: растает снег, вернется тепло. Ведь и у собаки первый щенок на свете не жилец; и в картах, говорят, первый выигрыш не выигрыш, а так, для затравки. Вот и на сей раз напрасны надежды. Уже к утру задул ветер с востока, и так стало студено, что у маленьких ребятишек носы алым огнем загорелись. Видно было по всему, что зима установилась прочно.
Лезет из труб густой дым, горьковатый запах кизяка расплывается в морозном воздухе. Пахнет горящий кизяк, как прогорклое пиво. А есть дома, где в печи поют, трещат буковые поленья, издавая аромат, словно увядающая резеда в церкви воскресным вечером в разгар лета.
Мужики тулуп перевертывают овчиной внутрь — у кого есть он, тулуп; у кого нет, тот лишь ежится, голову в плечи втянув, да холодный воздух сосет сквозь зубы. Ну конечно, не на людях. А на людях выпрямится мужик и ходит, будто и черт ему не брат. Мол, это ли мороз!.. Во дворах кидают снег, прокладывают дорожки к соломе, к колодцу, к хлевам, к кучам подсолнечных будылей. Бабы кутаются в платки теплые, ступают по снегу мелко, бережно, будто по скользкой лестнице идут. Ребятишки, из школы возвращаясь, глянут друг на друга, засмеются — и давай снег горстями хватать, снежки лепить.
Один день сменяется другим, утренние зори встают огненно-красные, это значит: жди или ветра, или же мороза без перемены.
И ветер был, и мороз становился все злее.
Сперва мужики по утрам еще в сторону поля поглядывали, да потом попривыкли и вспомнили зимние занятия. Кто дома сидел, кто по соседям ходил — покурить да покалякать, будто с прошлой зимы и не кончали.
Уже на третий день пошел по деревне слух, что в горах загрызли волки двух баб. Бабы-то были молоденькие и оделись нарядно, будто в церковь; шли же они в Варад, на базар. И не осталось от них ничего, только ноги в сапожках.
Такие же разговоры про двух баб, заеденных волками, ходили в здешних краях и в прошлом году, и в позапрошлом… Может, и в самом деле каждую зиму съедают голодные волки двух молодых баб. Ровно двух, не больше и не меньше. Может, бабы те приносятся в жертву самому богу зимы? Кто знает… Только идет такой слух из деревни в деревню, растет снежным комом, бередит людям душу. А сильнее всего волнует он подростков. Тягучими зимними вечерами собираются они в чьей-нибудь конюшне, где лошади стучат копытами по настилу, коровы жуют свою жвачку да пламя коптилки трепещет, бросая блики по стенам. Сидя тесно на сене, пересказывают парнишки друг другу нестареющую легенду про волков и двух баб, пересказывают то так, то этак, с разными подробностями, — а сами вспоминают живых женщин, золовок да крестных, как летом вымачивали те коноплю или мыли шерсть на пруду, а из-под подоткнутых юбок их светились круглые колени.
Ах, эти белые колени, вечной тайной дышащие! Эти женские колени, такие непостижимые для бедных подростков. Даже за голенищами сапожек, до матового блеска отшлифованными тяжелым краем юбки, таится что-то необыкновенное, что-то чудесное… и ведь подумать только, что как раз до кромки сапожек и съели волки тех двух баб. Как раз до верхнего двойного шва.
Оживают, выходят на свет божий и другие легенды. Рассказывают, ночью по деревне рыщет бешеная собака, шерсть дыбом, глаза горят, будто два угля, язык из пасти свисает на добрый вершок.
На солончаках, говорят, убили табунщика (слух этот держится уже добрых шестьдесят лет), в соседней деревне корова отелилась бычком о двух головах, упал с неба свиток с непонятными письменами, а еще говорят: быть войне, потому что видели на небе меч огненный, сверкающий; на околице, под садами, каждую ночь куролесят привидения, вурдалаки, ведьмы… Взрослые, степенные мужики россказням этим, конечно, не верят — маленькие они, что ли? — но и спорить не спорят, только помаргивают да трубку посасывают торопливей, чем обычно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
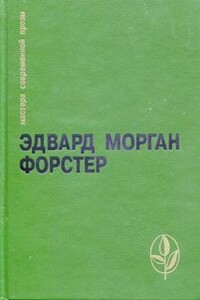
«Слова - вино жизни», - заметил однажды классик английской литературы Эдвард Морган Форстер (1879-1970). Тонкий знаток и дегустатор Жизни с большой буквы, он в своих произведениях дает возможность и читателю отведать ее аромат, пряность и терпкость. "Куда боятся ступить ангелы" - семейный роман, в котором сталкиваются условности и душевная ограниченность с искренними глубокими чувствами. Этот конфликт приводит к драматическому и неожиданному повороту сюжета.
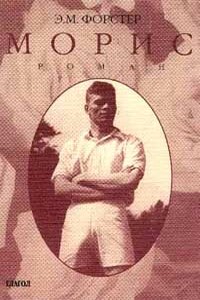
В рассказе «В жизни грядущей», написанном в двадцатые годы, Форстер обратился к жанру притчи, чтобы, не будучи связанным необходимостью давать бытовые и психологические подробности, наиболее отчетливо и модельно выразить главную мысль — недостижимость счастья в этой, а не в загробной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
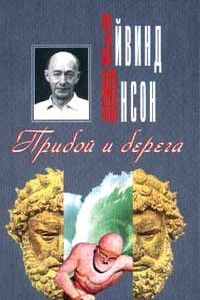
«Я хотел создать образ современного человека, стоящего перед необходимостью применить насилие, чтобы предотвратить еще большее насилие», — писал о романе «Прибой и берега» его автор, лауреат Нобелевской премии 1974 года, шведский прозаик Эйвинд Юнсон. В основу сюжета книги положена гомеровская «Одиссеия», однако знакомые каждому с детства Одиссеий, Пенелопа, Телемах начисто лишены героического ореола. Герои не нужны, настало время дельцов. Отжившими анахронизмами кажутся совесть, честь, верность… И Одиссей, переживший Троянскую войну и поклявшийся никогда больше не убивать, вновь берется за оружие.

В сборник включены роман М. Сабо и повести известных современных писателей — Г. Ракоши, A. Кертеса, Э. Галгоци. Это произведения о жизни нынешней Венгрии, о становлении личности в социалистическом обществе, о поисках моральных норм, которые позволяют человеку обрести себя в семье и обществе.На русский язык переводятся впервые.
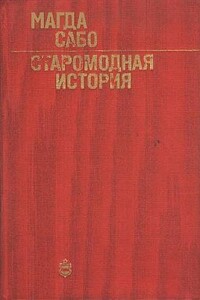
Семейный роман-хроника рассказывает о судьбе нескольких поколений рода Яблонцаи, к которому принадлежит писательница, и, в частности, о судьбе ее матери, Ленке Яблонцаи.Книгу отличает многоплановость проблем, психологическая и социальная глубина образов, документальность в изображении действующих лиц и событий, искусно сочетающаяся с художественным обобщением.

Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.
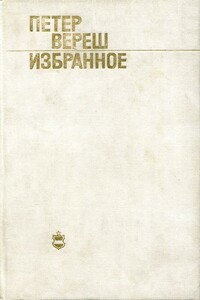
В том «Избранного» известного венгерского писателя Петера Вереша (1897—1970) вошли произведения последнего, самого зрелого этапа его творчества — уже известная советским читателям повесть «Дурная жена» (1954), посвященная моральным проблемам, — столкновению здоровых, трудовых жизненных начал с легковесными эгоистически-мещанскими склонностями, и рассказы, тема которых — жизнь венгерского крестьянства от начала века до 50-х годов.