Пути неисповедимы - [135]
Я довольно скоро освоил технику дремы, сидя с книгой в руках. Делал это следующим образом: садился поглубже на кровать боком и лицом к двери, опираясь плечом и головой о стену и клал на подогнутую ногу книгу. Дремал и сквозь сон иногда переворачивал страницу. Так как глаза у меня посажены довольно глубоко, то было трудно понять, сплю я или читаю. Даже сокамерники не всегда это определяли. А вот с Майским на этой почве произошел довольно комичный случай. Он откровенно заснул, сидя с книгой на постели. А так как нас кормили черным хлебом, а в тот день был еще и горох, то Майский для комфорта отстегнул верхние пуговки штанов. Кроме Майского, никто не спал, все занимались своими делами и не заметили, как надзиратель стал тихо отпирать дверь. Было уже поздно будить Майского. Его разбудил надзиратель. Майский вскочил (при разговоре с надзирателем мы должны были вставать) и на отчитывание надзирателя стал бойко утверждать, что не спал, а читал, а в это время штаны его, ничем не удерживаемые, стали падать на пол. Все, кроме Майского, это видели, а он, уже без штанов, все продолжал доказывать, что не спал. Положение было настолько комичным, что дело кончилось без неприятного разговора. Кстати, собственные очки, у кого они были, отбирались и выдавались надзирателем только на время чтения — мера предосторожности — все же стекло.
Иногда в камеру вбрасывали две половые щетки, и мы превращались в заправских полотеров — заломив руки за спину, ритмично двигались по камере, натирая старинный паркет — аккуратные дубовые ромбы. Раза два производили генеральную уборку в камере. Это запомнилось потому, что разрешили подойти к окну и мыть решетку — тоже занятие! Окно было большим, низко расположенным, закрытым снаружи железным щитом-намордником. Щит был укреплен наклонно, отходя от окна кверху. Если смотреть в окно вверх, то виден кусок неба и верхние этажи здания напротив. Когда садилось солнце, то была видна тень парапета с часами на фасаде старого здания, выходящего на площадь.
Меряя камеру взад и вперед, я обычно доходил до окна, задерживаться у которого, как я сказал, не разрешалось. Однажды в одном из окон противоположной стены я заметил женщину, которая протирала стекла. Ее лицо, вернее, взгляд врезался мне в память — остановившиеся глаза, расширенные, полные ужаса. В них, казалось, отражалась та пропасть, куда мы были ввергнуты.
Еще развлечение — стрижка и бритье, а также баня. Баня была каждые десять дней. Внизу в подвальном помещении был хороший, чистый душ. Стригли и брили только машинкой в коридоре около окна- Выводили туда по одному и, усадив на табурет, заключенных оболванивал мрачный субъект с каменным лицом, производивший впечатление глухонемого. После бани нам давали ножницы для стрижки ногтей. Более тупого инструмента трудно себе представить — маленькие, с тупыми концами, они скорее раздавливали ногти, чем их резали. Вся камера сначала стригла ногти на руках, потом на ногах. Так же, по-видимому, поступали и соседние камеры.
Кстати, о соседях. Они были слева от нас. Справа находилось раздаточное помещение, что было ясно по звукам, доносившимся через стенку, если прислушаться. В тишине тюрьмы ни один звук не долетал до нас. Но если припасть ухом к стене, не сводя глаз с застекленного глазка в двери, а еще лучше, если при этом приставить к стенке кружку и прижаться ухом к ее дну, то становится слышной жизнь соседней камеры. Можно даже разобрать интонации голосов, но слов понять невозможно. Были слышны шаги, стук чайника, который ставили на стол. Однажды после одного из ночных допросов я долго не мог заснуть. Кругом стояла полная тишина. Вдруг я услышал шум двери в соседней камере, шаги и скрип койки, на которую лег человек только что вернувшийся, как и я, с допроса. Он долго ворочался, не находя, видно, себе места. Потом вдруг я услышал рыдания этого несчастного. Мне стало не по себе. Что было у него на допросе? Друг его предал или кто-то из близких, или он кого-то предал — почему-то представилось мне. А кругом мертвая тишина.
И еще мне вспоминается один знак ужаса этого страшного дома. Был теплый солнечный день, и наше окно было открыто. Неожиданно со двора донесся громкий душераздирающий крик. Он оборвался также внезапно, как и начался. Видно, кричавшему тут же зажали рот. Крик выдавал какое-то насилие и произвел на нас самое тяжелое впечатление — некоторое время мы сидели оцепеневшие. Что это было, я так и не знаю.
В камеру довольно часто поглядывали через глазок. Для этого отодвигалась крышечка, и через стеклышко на нас смотрел чей-то глаз. Иногда глаз два-три раза менялся — смотрели несколько человек. Раза два после подглядывания крышечку по небрежности закрывали не полностью, и в глазке оставалась тонкая, тонкая щель дугой моложе самого молодого месяца. Если прильнуть к такой щели, то виден кусочек коридора. Мне удалось увидеть спины четырех заключенных, следовавших в уборную. Шествие замыкал надзиратель. В другой раз я увидел явного новичка, который только что вошел в коридор. В руках он держал белую наволочку, в которую, видно, впопыхах жена насовала самое необходимое для такого случая. Был это уже сильно пожилой, интеллигентного вида человек, лицо которого выражало высшую степень недовольства и, пожалуй, растерянности.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
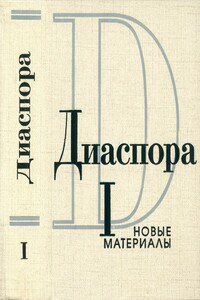
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.