Пути неисповедимы - [133]
— Да, сознаюсь, чертежи передавал.
Следователь рад, спрашивает:
— Какие чертежи?
Ядров спрашивает свидетеля:
— Чертеж резервуара был?
— Был.
— А чертеж помпы был?
— А специальная игла была?
— Было, было, — следователь все записывает.
— И приложено описание?
— Да, приложено.
— Так я тебе чертеж примуса передал, подлец ты этакий! — и, набрав полный рот слюны, плюнул лжесвидетелю в физиономию. Так лопнул этот мыльный пузырь. Но это стоило года сидки. Теперь же ему предъявили обвинение в том, что он хранил антисоветскую литературу. За таковую приняли политические карикатуры, публиковавшиеся открыто в 20-х годах, и изъятые у него при обыске... в 1934 году! Но помимо этого Ядрова обвиняли в каких-то древних связях с эсерами.
С момента ареста прошло почти три месяца, а Ядрова ни разу не вызвали на допрос, не предъявили обвинения. Это было явным нарушением уголовно-процессуального кодекса. Ядров уже предвкушал, какой скандал он поднимет в наш век соблюдения формальностей. Но вот его вызвали на допрос. Вернувшись, он рассказал, как следователь ужасно нажимал, заставляя подписать какую-то явную напраслину. Ядров упирался, и следователь, сдавшись, пошел на попятный, приняв то, что говорил Ядров, и протокол был подписан. Перебирая в памяти ход допроса, Ядров вдруг начал страшно себя ругать. Только в камере он сообразил, что протокол был датирован не сегодняшним числом, а двумя месяцами раньше. Так, его, умудренного опытом человека, провели и одновременно обошли нарушение законов. Возможно, следователь был предупрежден тем же Астровым о намерениях Ядрова и разыграл этот психологический этюд.
За мое пребывание в камере там появились еще три человека на места ушедших Бокова, Степанова и украинца. Один из них интеллигентного вида человек лет сорока, сел по доносу квартирной соседки за невоздержанность в словах. Как-то, уйдя на допрос, он вернулся в камеру только через пять дней, проведя это время в карцере. Послал его туда следователь за какой-то грубый разговор. Карцер ему, видно, был полезен, так как вернулся он, как в дом родной, очень всем нам обрадовавшись: и люди, и кормят, и курево, и прогулка, и книги, и нормальная пайка, и тепло. Столько благ! И как все в мире относительно!
А вот еще один камерный сожитель — говоривший с сильным акцентом молодой солдат-украинец, которого, как он рассказывал, ссаживали из вагона в воронок в наручниках. Привезли его из Крыма по какому-то коллективному делу, нам не совсем ясному. Был он человеком разговорчивым, но нам что-то не договаривал. Из его разговоров было ясно только то, что была какая-то группа военных и гражданских, которая много болтала и, видно, лишнего. Очень скоро с допросов он стал возвращаться, плотно пообедав у следователя. Как сам рассказывал, следователи давали ему и курево. По всему было видно, что он с ними хорошо сотрудничал. Чего это стоило всем остальным участникам дела — можно только догадываться.
Третий — студент первого курса Института иностранных языков Сарылов. Мне хорошо запомнилось его появление в камере. Открылась дверь, и в камеру как-то натружено вошел бледный, испуганный рыжеватый парень и застыл у двери. Надзиратели внесли его вещи, затем койку, а он все стоял оцепенелый и долго не мог придти в себя. Потом он рассказал, что его накануне в шесть часов утра взяли из дома и сразу на допрос. Непрерывный допрос продолжался более суток, менялись только допрашивающие. Из него выжали все, что могли и что хотели, и только потом, когда он все подписал, отправили в общую камеру. Такой конвейер не под силу и более зрелому человеку, а не только мальчишке-первокурснику. Что же это было за дело? Этот молодой человек, единственный сын очень обеспеченных родителей, принадлежал к так называемой «позолоченной» молодежи с весьма невысокими моральными принципами. Он и сам рассказывал, как иногда, закусив в ресторане с приятелями, они покидали приглашенных девиц, не заплатив по счету и предоставив это приглашенным. Или, как возвращаясь поздно домой (он жил на Можайском шоссе), брал легковую машину — только не такси — а подъезжая к дому, удирал от шофера знакомыми проходными дворами, или просто воровал деньги у родителей. Они составляли группу своего рода «единомышленников». Главой был Саша Якулов, кажется, сын известного художника — музыкант, ловелас, жулик и пройдоха. Они болтали, что влезет в голову, и мечтали удрать за границу. Все это стало известно органам. О Сарылове еще напишу ниже в связи со встречей Нового года. Здесь же добавлю только, что у меня с ним был один и тот же следователь.
Итак, из девяти человек, прошедших на моих глазах через камеру №46, трое, если считать Ядрова-Ходоровского, были евреи — процент довольно большой, но его можно понять, если вспомнить, что тогда был разгар борьбы с «космополитизмом», в центре которой были евреи, а апогеем ее стало позже «Дело врачей».
Как же проходил наш день? Подъем в 6 часов. Открывалась дверь, и надзиратель говорил это слово громким шепотом или просто стучал ключами о ручку двери — звук очень неприятный. Да и само пробуждение было одним из наиболее горьких моментов: «Да, значит это не сон, а страшная действительность», — проносилось в голове. Все в подавленном состоянии, погруженные в невеселые мысли, молча ожидали вывода в туалет на оправку и мытье. Хотя параша всегда стояла в камере, делать в нее по-большому было не принято, а в туалет пускали сразу всю камеру только два раза в день. Поэтому терпели. В начале это было непривычным, а потом ничего. Нашу камеру, расположенную сразу слева от входной двери, выводили обычно первой. Дежурный по камере и еще кто-нибудь брали парашу — большой железный бак с крышкой и двумя ручками, а все остальные за ними парами выходили в коридор. В уборную нас вели двое надзирателей. Так же попарно, с парашей во главе, такой же вонючей, но промытой дезинфицирующим раствором, возвращались в камеру. Далее, шло ожидание завтрака или двадцатиминутная прогулка. В этом случае надзиратель предупреждал: «Приготовиться на прогулку». В зависимости от погоды мы одевались и ждали. Зимой на прогулку мне выдавали тюремный бушлат — черный недлинный балахон и папаху дореволюционного образца — можно представить сколько голов она одевала! Затем опять по команде мы попарно выходили в коридор. Нас пересчитывал надзиратель коридорный и надзиратель прогуливающий. Если кто-либо по той или иной причине не шел на прогулку, его не оставляли в камере, а помещали в бокс. Обычно мы гуляли во дворике внизу. Его забор, выкрашенный в густо-зеленую краску, обратил мое внимание в день прибытия на Лубянку, когда я входил во внутреннюю тюрьму. Забор отгораживал небольшое пространство примерно 20 на 30 метров, примыкавшее к стене тюремного здания. Кто-то из старожилов говорил, что на этом отгороженном дворике в 1945 году повесили Власова, бывшего генерала Красной Армии и Краснова, генерала Белой Армии. Надзиратель становился в сторону под часы, скучал, иногда откровенно подремывал, а мы начинали свой «бег» по кругу: сначала шли медленно, потом все быстрее и быстрее, но, конечно не бежали, потом опять замедляли ход. Пожилые не включались в этот темп, а Ядров дышал воздухом у стенки. На одной из прогулок я заметил лежавший на асфальте небольшой клубок ржавой сталистой проволоки и, поглядывая на дремлющего надзирателя, улучил момент и ухватил эту находку больше из озорства или спортивного чувства, чем из надобности. Правда, некоторая необходимость в этой находке была — я предполагал использовать проволоку в качестве иголки, которую обычно надо выпрашивать у надзирателя, а иголки из рыбьих костей плохи. Эта моя проделка оказалась незамеченной. И еще одно озорство, вернее, бравада. Напротив дворика поднимались этажи соседнего корпуса. Однажды из окна третьего этажа на нас поглядывала какая-то женщина. Я ей приветливо помахал рукой. На ее лице ничего не отразилось, оно просто исчезло.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
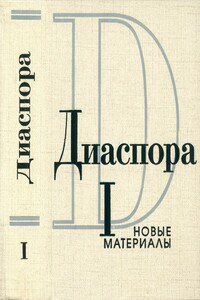
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

«Когда же наконец придет время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? …тружусь как последний поденщик» – сокрушался Сергей Петрович Боткин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что труды его не пропали даром. Будучи участником Крымской войны, он первым предложил систему организации помощи раненым солдатам и стал основоположником русской военной хирургии. Именно он описал болезнь Боткина и создал русское эпидемиологическое общество для борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями чумы, холеры и оспы.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.